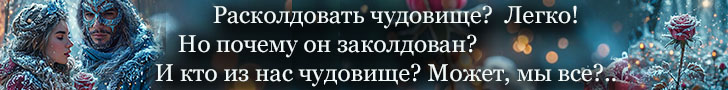10 секунд до рассвета
С момента твоего рождения начинается отсчет времени
Господи Боже мой, удостой меня быть орудием мира Твоего,
Чтобы я вносил любовь туда — где ненависть,
Чтобы я прощал — где обижают,
Чтобы я соединял — где есть ссора,
Чтобы я говорил правду — где господствует заблуждение.
Символ веры. Из молитвенника.
— Будете говорить?
Рыжие ресницы прикрываются, отбрасывают темные тени на щеки, усыпанные крохотными веснушками.
— Представьте, что Вы сидите на огромной поляне, — я пытаюсь разговорить этого рыжего паренька. — Вы под куполом темного ночного неба, усыпанного звездами. Вам кажется, что оно мягко нависает над вами. Вы под его защитой. Луна освещает траву, на которой вы сидите. Земля уходит из-под ног, и вы оказываетесь в воде. Вы погружаетесь в эту воду. Над вами по-прежнему небо. Звезды падают с него, ударяются о воду, погружаются к вам. Вы же распахиваете глаза, способный дышать под водой, плывете вверх или вниз. Под вами подводное царство.
— Не люблю ночь.
Прерывает меня бестактно, когда я уже разошелся в своей безграничной фантазии.
— Почему?
Глаза его открываются, и голубая, как недра Балтийского озера, радужка глаз уставляется на меня.
Они маленькие, но пронзительные, в обрамлении длинных золотистых ресниц, заглядывают мне в душу, роются там, пытаются найти что-то. И кажется, что не он, а я пришел к нему на прием.
Займи место психолога и не пялься так на меня!
— Ночь — это страшно. Темнота — это одиночество. Я боюсь темноты.
— Почему боишься?
— Я же одинок.
Все мы, мальчик мой, одиноки.
— Почему, как вы думаете, вам пришлось оказаться в одиночестве?
Он мнется. Смотрит то вниз, то на меня.
Андрей Туманов. Тридцать лет. А на вид всего двадцать. В глазах голубых столько боли, сколько не было у Господа при распятии Его на кресте. Лицо молодое, а каждая черта выдает страх и неумолимую боль. Кажется, что вот в этих ввалинах под глазами таится немой крик, собранный им в камере пыток немецких фашистов в годы Великой Отечественной.
Что тебя так потрепало?..
Туманов…
Туманов…
Туманов…
Пока мы смотрим друг другу в глаза, я мысленно катаю эту фамилию из угла в угол. Моя память проблескивает, и вот-вот я соскочу с места, выкрикну: «Вспомнил!»
Но не могу. Не вспоминается…
Он запускает руку в рыжие пряди, взъерошивает их. Они поднимаются, как волна на море, бушуют и снова ложатся послушно и гладко, прикрывают уши, чуть касаются плеч.
Туманов… Где я мог это слышать?
— Мне, если честно, несладко жилось в детстве, — он решается сказать. Мне, тридцатитрехлетнему мужчине, повидавшему на свете всякое, уже неудивительно видеть вот таких замкнутых людей у себя на приеме.
Психолог должен помогать людям. Я помогаю. Вот только каждый раз после их душещипательных историй я прошу у секретарши Светланы валерьянку. Потом молю Господа о том, чтобы меня он не наградил такой судьбой. Хотя за мои проказы в детстве меня можно самого распять на кресте, предварительно отрезав мне пальцы.
Скольким людям жизнь испортил!..
— Он меня схватил, притянул к себе. А я смотрю в его глаза, а они бешеные!
Глаза в глаза. Душа в душу. Я смотрю на него, он на меня. Сверлит взглядом…
— Он?
— Его руки крепко держали, а все смеялись. И они предложили, — замолкает, отводит взгляд и жмется в кресле, — раздеть меня. Потом он пытался целовать. Но поцелуи были грубыми, скорее, чтобы напугать меня. Меня тошнило. Перепили тогда на балу все. Меня затащили в этот туалет и подперли дверную ручку шваброй. Он смеялся громче всех и фантазировал по поводу меня.
Он смотрит на меня. Ждет реакции. Я сижу в немом шоке.
Туманов… Туманов… Кто же ты, черт тебя дери…
— Я тогда к матери должен был бежать. Она у меня в больнице лежала. Болела сильно. Деньги еле насобирали ей на операцию. А они меня в туалете держали. Глумились. Сначала избили. Потом прижали к стене и стали измываться над моим телом.
Туманов… Рыжий мальчишка с четвертой парты. Внешность как у девчонки. Мне восемнадцать, а ему пятнадцать. Отличник, экстерном программу девятого и десятого закончил. К нам перевелся…
— Потом он, — обрывает рассказ. Лукаво улыбается. Улыбка сумасшедшего… — в особенности надо мной поглумился, когда все уже ушли. Мы остались вдвоем. Он долго лез ко мне, бил по лицу, если я не слушался его.
Туманов. Мальчишка, который всегда ходил один. Мы его еще с парнями дразнили. А он молчаливый был, туманный…
— Когда уже у меня изо рта кровь текла, он меня холодным чем-то облил. Водка, наверное. И ушел.
Туманов.
Мы тогда на Осенний бал напились, заперлись с парнями в туалете и курили. Директор бы убил нас, если бы мы такое устроили в школе. Вот и прятались по туалетам. С нами девчонки две сидело. С одной Ванька пошел в кабинку. Что было с другой — не помню.
К нам постучались и таким тонким голоском попросили пустить.
— Я встал, пополз к выходу, но голова болела. Вырубился. На утро нашли всего в крови, грязи, облитого алкоголем. Из школы отчислили.
Туманов, мы еще с парнями тебя в туалет пустили и ржали, что ты на бабу похож. Потом я предложил его поиметь… И сначала никто не решался. Потом как-то в пьяном бреду согласились пустить парнишку по кругу.
Туманов. Орал еще. Бился головой об стену.
— В больнице доктор сказал, что она уходит… И я должен отпустить маму в другой мир. Светлый и чистый.
Туманов. В школу не ходил потом. Последний раз пересекся с ним у секретаря. Он там документы забирал.
— Жил у дяди. Тот еще алкоголик, — голос его дрогнул. Он вроде и светлый, чистый и нежный, но немного хриплый… взрослый… — С девятью классами поступил на электрика. Ходил людям Интернет проводил. Я же в этом хорошо разбираюсь. Тогда Интернет все хотели. Столько заказов было!
Туманова я потом не видел. Даже имени до сегодняшнего дня его не знал.
Андрей.
— Женился. А она злая была, все деньги мои брала. Детей не было, но и хорошо. У матери поминки были, уже лет пять прошло. Такая дата. Она все деньги взяла, пошла с подругами гулять. Я разозлился, когда она с покупками пришла. Избил. Головой о батарею ударилась… Когда очнулась, побежала в милицию.
Туманов, не говори, что я во всем этом виноват…
— Посадили на год. Да и в тюрьме было не лучше. Можно об этом не буду, доктор?
Молчу.
— Доктор?
— Что?
— Вы меня слушали?
Трясет. Меня трясет.
— Я бы повторно сел за убийство этого козла.
Я сжимаю лист в руках. Ручка падает на пол. Все медленно. Я, сидящий в своем кресле, переношусь далеко назад. Андрей расплывается у меня перед глазами. Сердце перетягивает толстый жгут, я замираю, тяжело дыша.
Ручка, упавшая на пол, громко стучит, звук разносится по всей комнате, ударяет по ушам!
— Фамилии его только не помню. И имени. Сейчас вы, доктор, единственный, кто может спасти меня. Я знаю, для вас я чужой. Но я готов свои последние деньги вам платить, лишь бы вы спасли меня от этого одиночества. У меня сейчас никого. Меня на работу даже не хотят брать… Да и время наше закончилось, — он смотрит на часы. Поднимается с кресла, поправляет просторный синий свитер, обходит меня.
Мне кажется, что сейчас он наклонится и зашепчет мне на ухо, какая я скотина, что он моя совесть. А потом его руки лягут мне на шею и длинные пальцы, как у музыканта, сожмут мое горло так сильно, что я буду захлебываться собственной слюной.
— Не платите за сегодняшний сеанс, — говорю я в пустоту.
Он, худенький, невысокий, обходит меня, становится прямо передо мной. Ноги тонкие и длинные, затянутые черными узкими джинсами, свисающий свитер, потертые ботинки, уложенные, средней длины волосы, маленькие глаза, голубые, как бездна морская. Вот он, призрак моего прошлого. Вот он, причина моего одиночества. Вот он, наказание за все мои грехи.
Туманов выходит. Я остаюсь один.
— Света! — зову секретаршу, хватаясь за сердце. — Света!
Горло душит. Я человека убил просто… Я. Я своими руками загубил его жизнь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
— Света! — кричу на последнем выдохе, чувствуя, как огонь сжимает шею. — Света…