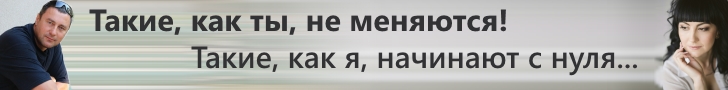1938
Время разрушать
Всему свой час, и время всякому делу под небесами.
Экклизиаст.
1938 год
Во сне к ней приходила мама. Она села рядом на постель, от нее чуть пахло «Красной Москвой» и чем-то еще, сладким, как будто яблочным пирогом. Мама была в лучшем – синем в горошек – платье, в белых туфлях с пряжками и в плоской шляпке. Она молча сидела на краешке кровати и смотрела в окно, а потом очень тихо сказала:
- Завтра будет война.
Лида тоже взглянула в окно – за полупрозрачным тюлем отгорал закат, и небо светилось оранжевым и красным, налитое этими цветами до самых краев.
- Какая война? Когда?
Красное за окном пульсировало, как будто с той стороны навесили кусок алого шелка, и кто-то ходит там, за этим шелком. Внезапный порыв ветра вдруг сдернул занавесь, и вот уже мимо скачут кони, рыжие, злые, на их мордах пена, пена красна от крови…
- Это сон, - отчаянно произнесла Лида, но кони продолжали мчаться мимо, становясь волнами, флагами, облаками – или закатные облака казались конями? Мама улыбнулась мудро, печально и понимающе, как будто знала что-то, о чем не могла сказать. Она подошла к окну, и руки ее свободно прошли через стекло, словно там ничего не было – только воздух. И вот не видно уже ни платья ее, ни шляпки, только неясная фигура пропадает в дикой круговерти, и Лида тянется, тянется к ней сквозь мглу, но ладони упираются во что-то холодное и твердое.
В прихожей раздался звонок. Лида вздрогнула и очнулась ото сна. Звонили громко, бесцеремонно, тревожно, настойчиво – так могут звонить лишь равнодушные незнакомцы, приносящие дурные письма и дурные вести.
- Олег? – она огляделась: мужа не было рядом, одеяло с его стороны оказалось откинутым. Дверь в соседнюю комнату приоткрыта, полоска света улеглась на старые половицы, разделив спальню надвое, словно клинком.
- Милый, это… - кутаясь в халат, она выглянула в гостиную, и увидела Олега, который сидел на корточках у печи и сосредоточенно пихал в ее пылающую пасть бумаги.
- Они?
Сердце так и упало, став неподъемным камнем, Лида качнулась, едва успев схватиться за спинку стула.
- Да, - Олег не обернулся на жену, продолжая кормить печь своей диссертацией, письмами, статьями, даже фотографиями. Он делал это с какой-то странной механической методичностью, и бумага горела, и обращались в пепел слова, те самые, что могли бы когда-нибудь помочь многим людям. Его лицо не выражало ничего, оно было спокойным, как лица гипсовых голов из класса рисования.
- Олег!.. – женщина обреченно опустилась на хромоногий стул, не заметив, как он покачнулся под ней. Нет, то был не стул – ее жизнь давала опасный крен, уходила из-под ног, проваливалась в ледяную темную бездну…
- Лидочка, все будет в порядке, - муж закончил с бумагами, закрыл заслонку печи, и под неумолчный треск звонка, разрывающего пыльное пространство едва освещенной комнаты, стоял и смотрел на три маленьких алых глазка, мигающих в полутьме. Даже не обняв жену, как деревянный, прошел в прихожую, звякнула цепочка, повернулся ключ в замочной скважине.
- Гордеев Олег Степанович? – донесся глухой голос. – Вы арестованы.
Трое крепких мужчин вошли в комнату, за ними плелся заспанный, напуганный понятой – их сосед Сергеич, самый что ни на есть порядочный пролетарий. Олег стоял в проеме двери, и лампа под зеленым абажуром на столе едва высвечивала его лицо, все такое же каменное, застывшее.
Один из троих, высокий плечистый блондин, протянул Лиде удостоверение, но она только покачала головой, молчаливо и покорно глядя на то, как ребята из НКВД привычно ходят по комнате, раскрывают шкафы, роются в ящиках комодов, выбрасывая оттуда белье, одежду, газеты, книги. Хватило полчаса, чтобы прибранная и аккуратная квартира Гордеевых превратилась в хаос из сваленных в беспорядке вещей. Все, что могло иметь хоть какое-то касательство к работе Олега, было конфисковано, тщательно описано и перевязано бечевкой, чтобы отправиться вслед за хозяином в управление. Сергеич, забитый и тихий, сидел в углу, прекрасно понимая, что завтра эти парни придут и за ним. На Лиду он не смотрел, предпочитая изучать половицы.
Лида наблюдала за ними, даже не пытаясь возражать. Она знала, чем чревато такое возражение: завтра или послезавтра ее вызовут к директору якобы на педсовет, а в кабинете ее будут ждать те же мужчины с незапоминающимися, как будто стертыми лицами и повадками хищников. И вот она – враг народа, как и Олег. И больше она не увидит своих учеников, а дальше – этапами – в Сибирь.
- Передачи разрешены? – наконец спросила она очень тихо. Блондин обернулся к ней, достал сигарету, закурил.
- Да, по установленному порядку.
- Понятно. А…
- Свиданий не будет. Но, пожалуй, - он вдруг подмигнул, хотя в лице его не было ни намека на улыбку. – Для вас, Лидия Ивановна, мы что-нибудь придумаем.
Его липкий, плотоядный взгляд скользнул в вырез халата, и Лида запоздало закуталась плотнее, взяла платок со спинки стула и набросила его на плечи. Мужчина хмыкнул, докурил сигарету, бросил окурок в печь.
* * *
Михаил Кузнецов смотрел на испуганную женщину, что сидела напротив него, смотрел на то, как она закутывает плечи в платок, как опускает глаза, случайно встретившись с ним взглядом, и ему доставлял удовольствие ее страх. Она казалась хрупкой, почти прозрачной: светловолосая, светлоглазая, с бледной кожей. А ее руки! Маленькие узкие ладони, на большом пальце – пятнышко зеленой краски. Учительница рисования в школе. Вот эту бы красотку да куда-нибудь в Норильск, на мороз! Мигом бы стала старухой, отвратительной старухой в серой телогрейке, таскала бы кирпичи, едва переставляя ноги, как собака, возилась бы среди других, выслуживая лишнюю ложку месива, именуемого едой. Зачахла бы ее тонкая красота, и не такие – полнокровные, ширококостные, сильные – превращались в подобия людей с горящими голодными глазищами. А потом и глаза уже никаким огнем не горели. И умирали такие, падали и умирали.