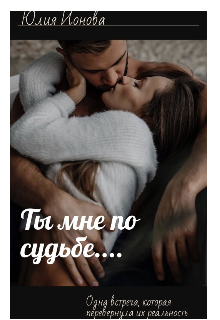6760
6760
Сколько же мне лет?
Отец говорит, что много, говорит, я уже взрослый. Не такой, чтобы жениться, а такой, чтобы знать, откуда берется хлеб в нашем доме.
Отец прав, я взрослый. Я знаю, откуда берется хлеб, и я сам догадался, что он бывает разный. Ароматный пористый, тот, что печет мать. Он самый лучший, самый сытный. Он пахнет ранней осенью, уставшей травой, от него тянет прогретыми солнцем камнями и стрекотом тысяч насекомых в альпийских лугах. Такого хлеба всегда мало.
Еще есть хлеб, который пекут в поселке на продажу. Его немного, он тоже сытный, но аромат его приглушен руками пусть и добрыми, но чужими для меня.
А еще бывает хлеб в пакетах из далеких огромных магазинов в больших городах. У него вообще нет ни вкуса, ни запаха, от него веет холодом больших машин, в которых его перевозят. Хотя, кажется, что в него будто сахар кладут, мать говорит, что и кладут. Такой хлеб, как леденец, окунешь в молоко, а потом пьешь - высасываешь, точно губку, а на языке приторная сладость. Это обман. Сладким досыта не наешься.
Я же взрослый, я многое знаю.
У меня будет место моего отца, со временем я заменю его. У меня будет хлеб и дом. У меня будет жена. И я даже знаю, кто она. Из соседнего поселка. Отцу не жаль заплатить. Она красивая.
Отец много работает. И я знаю, что надо много работать. Тогда и будет хлеб.
Я помогаю матери со скотом. Коровы и лошади, птица и огород требуют внимания и заботы. Езжу на старом Жигуленке к отцу на пасеку за медом. Присматриваю за мамой и братьями. За домом.
А иногда я надеваю чистую футболку с человеком, пинающим мяч, и стою за прилавком, продавая рассыпанный по пакетам сбор трав и специй, разлитый по стеклянным банкам мед.
Наш мед хорош!
Тягучая янтарная жидкость будто живая, будто дышит - переливается на солнце.
Не кормит наших пчел отец сахарной водой. Ведь это обман. Такое можно делать разве что для поддержания молодой пчелы или из-за очень плохой погоды. А так... Высоко поднимается его пасека - старый выхоленный УРАЛ с прицепом - телегой, в котором переезжают с места на место разноцветные ячейки-ульи. Отец знает, в каком улье какие пчелы, одни ленивы и далеко лететь не хотят, другие работают на износ. Как люди. Одни рук не опустят, другие ног не поднимут. Но хлеба и те и другие хотят.
Место наше торговое не особо людное.
Но отца многие знают и ценят его мед. Приезжают издалека сюда, к ларьку, или даже в горы ползут на больших джипах.
Но есть и те, кто слетает с перевала на маленьких разноцветных машинках или больших автобусах, тормозят возле нашего ларька, кривятся, видя яркую бирку на банке, говорят, что горный мед - это ерунда, самый лучший Башкирский или из средней полосы, что травы горные не дают того, что зелень на Севере. И мед наш просто пустышка. Отец ничего не отвечает таким, и я ничего не отвечаю. Те, кто знает силу цветка в горах, мед берут, не спрашивая цену. Они знают, как сильно важна вода и продолжение рода для альпийских трав. Как они всех себя, всю силу, что дают им горы, вкладывают в сладкий нектар, призывая пчелу.
Да, я взрослый. Я много умею. Отец и мать гордятся мной. Они любят меня. У меня есть дом. Мать готовит вкусную еду и покупает мне хорошую одежду. Отец учит меня всему и даже подарил мне телефон пару лет назад, я могу смотреть много полезного в Интернете. Иногда даже чем-то удивляя отца и мать. Я умный. Я выживу, если попаду в снежный буран, смогу починить шестерку и помочь отцу с ремонтом УРАЛА, я могу сготовить обед, сделать укол, угадать болезнь у скота.
Я уже взрослый.
Вот только... Сегодня с перевала спустилась красная машина. Из-за руля вышла женщина, а потом показались мужчина и маленькая девочка.
Номер машины и светлая кожа, не тронутая загаром - очередные приезжие, которые сейчас поохают возле банок с медом, поперекидываются взглядами и уедут в направлении города, где мед даже дороже, и не сравнится с нашим.
Однако, женщина, подойдя к прилавку, кажется, на ценник вовсе не обратила внимания, зато спросила про темный кориандровый мед и горный, какие они - нынешнего года или прошлого. Я ответил, что кориандр прошлого.
Сквозь прозрачные стенки банки это и так видно, как Всевышнему наша земля, но женщина спросила прямо, и я прямо ответил.
Она попросила три банки горного меда, только привезенного с пасеки. Порывшись в сумке, тяжело вздохнула, что без сдачи нет, и протянула мне оранжевую купюру, на которой красовались пятерка и три нуля.
Может до этого мне везло: обычно люди, заметив под навесом табличку с номером телефона отца, потыкав в экран уже своего телефона, показывали мне цветной чек, забирали пакет и уходили.
А те, кто покупал за наличку, долго отсчитывали, рылись в карманах, чтобы набрать без сдачи. Всевидящий миловал, отец ни разу не ругал меня за то, что я ему что-то не донес.
Но в этот раз мне надо было дать сдачу за три банки, а цена каждой - число из единицы, пятерки и двух нулей.
Я был полностью уверен. Я протянул ей пачку коричневых купюр и одну сине-зеленую.
- Вы слишком много даете, - она подняла на меня глаза и к деньгам не притронулась. - Ведь одна банка стоит полторы тысячи, так?
Я впал в оцепенение.
Много даю...
Девочка, приехавшая с ними, в этот момент побежала в сторону нашего ослика, который в загоне у скалы пощипывал траву.
- Настя! Вернись! - закричала женщина, дернувшись за дочкой.
Я вытянул из пачки купюру с единицей и тремя нулями и протянул ей.
Она взяла ее не глядя, все внимание ее было приковано к ребенку, который затормозил у отполированных погодой и руками жердей загончика, и потянулся ручонкой к мерно двигавшей челюстями морде ослика.
- Совсем не слушается! Дим! Приструни, а!
Женщина всплеснула руками.
Муж и отец девочки стоял рядом с нами и сжимал в руках уже переданные мною банки с медом в темном пакете.
- Насть! - голос мужчины рокотом раскатился, ударяясь о металлические стенки ларька.
- Ну, пожалуйста, мама! - заверещала девочка, но, зыркнув на отца, от загона отошла и тут же дернула в сторону их авто.
- Настя! Там машины! - женщина еще больше переполошилась.
Хотя никаких машин не было, кроме их и моей старенькой шестерки.
Пока мы наблюдали за тем, как девчонка нарезала круги вокруг автомобиля и двух больших валунов у дороги, в руках у женщины оказалась розоватая потрепанная купюра с пятеркой и двумя нулями, которую она протянула мне.
- Вот, а это, - кивнула она на сине-зеленую купюру, - тогда мне.
И, развернувшись, махнула мужу, возмущенно прикрикнула на дочь, чтобы та садилась в машину.
А я так и стоял, глядя на оранжевую и розовую купюры, пока до меня не долетели слова.
- Там же все элементарно! У них совсем детей считать не учат?! Сейчас стоит и думает, что ты его надула, и что от отца прилетит. Или от иного родственника. Кто у них там главный...
Руки опустились.
Отец и мать никогда не ругали меня. Они любят меня. Они хвалят меня.
Пыль, поднятая отъезжающим автомобилем, заклубилась колечками и понеслась, захваченная ветром в сторону скал, стеной ограждавших этот участок дороги от сильных ветров и осадков.
А если ...
Если меня действительно обманули.
Сумма никак не хотела складываться в голове. Как бы я не пытался. Женщина на красной машине действительно могла...
Только в этом ли обман?
Я ходил в школу только первые два первых года. И то, много чего пропускал, потому что жизнь в горах часто не позволяет доехать до нее особенно в зимние месяцы с нашего поселка, а весна и осень - это работа.
Я не глупый. Я люблю смотреть ролики на Ютубе и про ремонт машин, про музыку, а еще про космос. Но не помню, когда набирал бы текст в поисковике сам. Маленький значок - микрофон в уголке строки с трудом, но выручал. Всегда.
А считать... Я помню, что у шестерки на колесе по четыре болта. А значит , надо купить двенадцать, нет... шестнадцать... чтобы заменить все.
Если обманула, то Всевышний накажет ее. Отец точно не будет ругать. Ведь раньше не ругал... Потому что... не за что, или потому что... не обманывали?
И почему я чувствую, что меня обманули. Только не сейчас. Не здесь.
Будто холодом повеяло воспоминание. За окном бушует пурга. Она скоро закончится, и снег, нагнанный ею, сойдет дня через три. Я сижу возле окна и смотрю на снежное буйство. Скот накормлен и надежно укрыт. Дом не пропускает злющий горный ветер. На мягком ковре и высокой подушке хорошо лежать.
Связи на телефоне нет.
Делать нечего. Наваливается усталость. Даже не усталость, а тяжесть на веки, как сугроб. Я прикрываю глаза, слыша, как суетится мать, готовя еду. Братья, тоже поддавшиеся зимнему оцепенению, еле двигают ручонками, перебирая игрушки.
Щелк. Щелк. Щелк.
Этот звук не вызывает неприязни, наоборот. Я слушаю его, даже жду. Как и царапанье.
Приподнимаю уже почти на границе сна веко и вижу силуэт отца на фоне огня в печи. Он сидит, скрестив ноги, на полу. Перед ним кучки разноцветных купюр. Ручка, потертая с боков от позолоты. Белые листы, исчерченные черными квадратами, в которых стоят галки, и счеты.
Он складывает и вычитает, умножает и делит. Записывает в столбики. Хмурится, вычеркивает. Перекладывает купюры из одной стопки в другую. Вздыхает, кивает. Опять деревянные колечки движутся по тонкому стрежню. Завораживают, почище бури.
Я видел, как отец брал деньги от тех, кто приезжал. Он не считал купюры, он кидал взгляд, чуть раздвигал пальцами цветные бумажки, а потом просто клал их в карман.
Он всегда прав.
И все хорошо. Даже если обманули. Я с этим справлюсь, ведь я взрослый. Мне ...
Сколько же мне лет?
Я вытащил из кармана все купюры, что были.
Положил первую на прилавок, в самое начало.
Оранжевая бумажка - первый год. Я родился.
Голубая бумажка - второй год. Мать говорит, что я пошел в год, долго ленился.
Зеленая бумажка - третий год. Мать говорит, что отец попал в больницу с аппендицитом, кое как сам добрался с пасеки. Еле выжил. Этот день в семью у нас отдельный праздник.
Розовая бумажка - четвертый год. Родилась Агиля, моя сестра.
Коричная бумажка - пятый год. Умерла бабушка Амина, жившая недалеко от большого курортного города. Мать матери. Мать сильно плакала.
Голубая бумажка - шестой год. Родились мои братья Заур и Тимур.
Зеленая бумажка - седьмой год. Умерла Агиля. Она с рождения была больная. Мать с отцом говорили про инвалидность, а я... Для меня это слово было на вкус, как ненавистная черешня. Сладкая, вязкая и противная. Мать плакала. Я утешал, как мог. Отец почти не был дома. Жил на пасеке.
Розовая бумажка - восьмой год. Я пошел в школу. Мать отвела.
Коричневая бумажка - девятый год. Родился Аслан.
Голубая бумажка - десятый год. Родился Дагир.
Коричневая бумажка - одиннадцатый год. Родился Рамзан.
Коричневая бумажка - двенадцатый год. Мать и братья надолго попали в больницу, все хозяйство было на мне с отцом.
Коричневая бумажка - тринадцатый год. Умерла бабушка Света. Мать отца. Она жила где-то далеко под Москвой. Отец никогда на моей памяти к ней не ездил и даже не помню, чтобы звонил. А она присылала каждый год книги. Яркие детские. В них были большие буквы, пляшущие звери и ударения в словах. Отец уехал на две недели, а когда вернулся, ничего с собой не привез, даже фотографий в телефоне.
Коричневая бумажка - четырнадцатый год. Отец купил мне "шестерку", и я стою сейчас здесь под железным куполом ларька и смотрю на купюры в ряд на прилавке.
Рука опустела.
Отец учил разбираться в меде и старых машинах, в скоте, и погоде, но никогда не учил читать и писать, и не настаивал, чтобы я ходил в школу. Но ведь сам он считать умел. Не зря же натруженные мозолистые пальцы передвигали деревянные костяшки.
Эти же пальцы сжали ладошки Заура и Тимура, когда отец вел их в первых класс. И он улыбался им вслед, когда они семенили к дверям школы.
Но ведь он любит меня...
У меня есть телефон, я мог бы посчитать легко сдачу, ведь в телефоне есть калькулятор. Но там же все эль... элементарно!
Бумаги не было, как и ручки. Был ножик и дощечка сбоку от прилавка.
Я вырисовывал цифры с купюр и так и сяк. Я вспоминал, как оно было в школе, что будет если сложить. Столбиком. Отнять.
Я взрослый, я умный, я смогу!
Уже стемнело, когда шестерка въехала в широко распахнутые ворота и, разогнав сонных курей, почти уткнулась глазами - фарами в стену сарая.
Отец вышел на крыльцо.
- Долго ты что-то сегодня! Иди ешь, все горячее.
Я протянул ему деньги, как делал всегда. Все те купюры, что были.
- Шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей.
Отец забрал деньги, но в карман не положил, уставился на них и долго не мог отвести взгляд.
- Ты говорил, что я взрослый...
- Да.
- Отец, я... Я... хочу пойти снова в школу.
Он долго молчал, глядя на горы за моей спиной.
- Зачем?
- Чтобы стать взрослым, которого труднее обмануть.