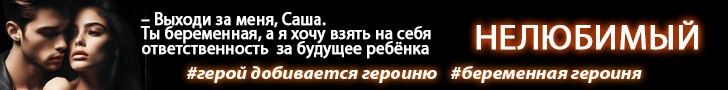А замок спал и видел сны
А замок спал и видел сны
7 января 1535г.
Жизнь закончилась, когда на апостола Андрея нас с отцом сбила карета. Странно, я отчётливо помню жёлтые с чёрным занавеси на окнах, пляшущих свиней и леопардов на гербе – и ничего больше. Всё остальное мне рассказали позже. Как карета даже не приостановилась. Как отец успел отшвырнуть меня с дороги на обочину. Как долго и страшно он кричал, пока маг-целитель не отнял боль… вместе с переломанными ногами. Как я стояла, опустив руки, комкая алую ленту, и смотрела вслед карете, хоть она давно скрылась за Собачьим островом. Соседи думают, что я сумасшедшая. Я знаю, что они правы.
Потому что кроме полосатых занавесок, кроме вытертых розовых свиней и похожих на львов леопардов я помню мелькнувшее в оконце красивое женское лицо, искажённое болью и неизбывным ужасом. И помню… нет. Священник, которому отец заплатил за мою науку двух овец, не научил меня, как выразить чернилами и гусиным пером то, что я тогда почувствовала. Что-то сдвинулось тогда в мире и в сердце – и меня… тянет. Тянет, тащит, не даёт забыться даже в молитве.
Спаси меня, Господи, и сохрани, на тебя уповаю.
P.S. матушка снова достала иконы. В доме, где прежде стучал молотком отец, тачая сапоги, слышишь только молитвы, вдыхаешь только запах ладана. Ладан и свечи. На что мы будем жить остаток зимы? Мне приходится заставлять себя об этом думать, а мама… кажется, она ещё более безумна, чем я. Или – нормальна? Дева Мария смотрит так пронзительно. С такой тоской, словно понимает, но я…
25 января 1535 г.
Не знаю, сколько ещё я смогу сопротивляться. Ночами просыпаюсь, сидя у окна, глядя в закрытые ставни – точно туда, где горит северная звезда. Словно искра по щелчку пальцев. Я – не я – снова я. Безумие. Одержимость, которая не бежит молитвы. Щёлк: я читаю “Отче наш”. Щёлк: я стою, упираясь носом в дверь, с сапогами в руках. Облатки рассыпаются вкусом пепла на языке.
И новое знание: когда нет шиллинга на хлеб, он всегда найдётся на стакан дешёвого бренди. Оно успокаивает боль в ногах и мешает работать руками, а приданое уходит за один вечер в кальянной рядом с трущобами у порта. Приданое.
Прежде отец воротил нос от соседей – как же, мастер, с достатком! – а теперь я – нищий перестарок. Пятнадцать лет, заневестилась, и за душой ни гроша. Монастырь? Стоит ещё дороже. Остаются только приют или канава на тракте после борделя. Грех, но меня это не пугает. Осталось презрение к отцу, жалость к матери, тоска по брату. Будь он здесь, всё могло бы сложиться иначе, но “Донна”, его когг, не вернулся в порт в декабре.
Когда я это пишу, мир на минуту, две становится настоящим, ярким, колет чужим страданием, обволакивает тоской и отчаянием, но стоит закрыть дневник: и снова исчезает всё, кроме желания уйти на север. Безумие. Даже старики не помнят такой холодной зимы, а ведь тёплой одежды, еды у меня нет.
Сколько пройдёт ночей, прежде чем это перестанет иметь значение? Во сне я не могу взять перо, окунуть его в чернила.
Нужно попробовать спать днём. Близится полночь, и, если я смогу досидеть до утра, то наве
-- января?
(неразборчиво) холод. Невозможно. Я не могу (вычеркнуто). Два дня. Проклятые два дня, и где я… сборщики долгов. Они увели отца, но… мама! Она ведь одна, там. Старая. Безумная – и да простит меня Господь, к лучшему. Хотя бы не понимает (неразборчиво) завидую. Не могу не писать. Пустая берлога, повезло. Зачем я другой мне? Зачем я себе – ради боли, страха? Слушать вой ветра, вздрагивать от воя волков? Жадно грызть снег. Алое на белом. Рвёт хвоей. Не хочу быть. Пусть исчезну, но (вычеркнуто) не могу не писать. Если кто-нибудь найдёт дневник – меня ведёт на север, на ладонь к востоку. Пожалу
Без даты
Ночь. Йорген-швед рассказывал, что высоко в горах дыхание иногда звенит, падая с губ. На самом севере. В Финмаркен. Голос звёзд, так он говорил. Когда звёзды говорят, нельзя двигаться быстро. Душа может уйти в небеса. Душа моя. Моя душа. Можно ли писать на бегу?
Лето!
Пчелиные соты – это кусочек солнца. Дар богов. Бога. Ха. Ха-ха. Почему я записываю смех? Он не журчит. А что делает? Точно, шуршит, воет и каркает. Нельзя записывать – ему от этого больно.
Белый свет мешает пальцам зажить, и на страницах полно зелёных пятен, зато чернила не замерзают. У меня внутри тоже солнышко. Зерно. Совсем маленькое, но светится и греет. Растёт.
Растёт – забавное слово. Растёт – Рас и Тёт, а тёт – это тётя. Или тета? Четыре, хотя и раз. Четыре похоже на чернила. Что чернила? Что чернила? Чем? Бумагу – пером. Смешно. Солнечно. Лепестково.
Встретимся летом! Я буду красивым подснежником!
Раскрываюсь свету.
13 февраля 1535 г.
После того, как я пришла в себя, несколько дней горло отказывалось произносить слова. Не получалось даже писать: разум отказывался составлять предложения, чтобы перенести их на бумагу. Но впервые за последний месяц я помню всё. Может быть, потому что дошла, может, благодаря магии суетливого целителя, но – помню, и мне стыдно за зверя, каким я была. Грязный оборвыш в лохмотьях красного плаща, кидающийся на ворота, неспособный даже понять, что можно постучать. Обжигает изнутри память об урчании, с каким я пожирала горячую кашу, как рвало, корчило в судорогах. Что изменили во мне платье, ванна, тёплая кровать, шепот и испуганные взгляды горничных? Где граница между снова стать человеком и вновь казаться человеком?
Сны приносят голос того, к кому я шла, рассказывают, мечтают. Порой их слышно даже наяву. Я ещё плохо понимаю их, но с каждой ночью – всё лучше. Вера. Уверенность. Сила, бьющаяся в самих камнях. Всё это есть во снах – ничего этого нет у меня.