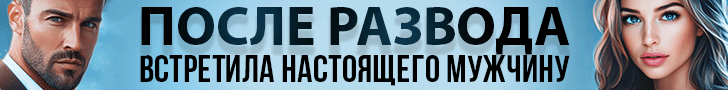Ангел мой
Ангел мой
Софья Андреевна, кутаясь в шаль, подошла к небольшому оконцу. На улице уже совсем темнело. Небо, разбросав серые облака по своему пространству, освободило из их плена только яркий месяц.
– Как ярко светит месяц, – сказала она тихо и задумчиво, – значит, снег больше не пойдёт.
– Куда ещё? Целый день мело, – проворчал старый сторож, в видавшем виды тулупе.
Он поднёс ей лёгкий сак из бархата, подбитый ватой с небольшим воротником на меху.
– Ох, барыня, барыня, кто же у нас, да в зиму одёжу такую носит? Не уж-то у вас, там, в городах, так ходят и не мёрзнут. Вот и Григорий Николаевич, сердечный, всё в шенэлку закутается, бывало, а она что? А какой человек был! Эх, горемычный. А всё одёжа виновата.
– Не ругайтесь дядечка Митрофан, – остановила добродушные причитания старика Софья Андреевна, надевая на голову такой же бархатный, отороченный мехом капор, – я же наперёд знаю, не дадите мне в дороге замёрзнуть.
– Ото, как-же! Конечно, не дам. Я вон и тулуп отогрел, пока вы с детишками возились.
Вложив в тёплую муфту худые, прозрачные ладони с тонкими длинными пальцами, Софья вышла из тёплой избы. Митрофан помог ей сесть в сани и укутал в длинный тёплый тулуп, пахнущий овчиной, перед этим накинув на капор тёплую шерстяную шаль. Проверив, хорошо ли он укутал барыню, сам старик взгромоздился на передке.
– Барыня, ноги, ноги-то побереги. Спрячь под тулуп, всё теплее будет. Ну, с Богом, поехали до дому.
Старенькие с крытым верхом сани скрепя скользили по упругому снегу. Тишину тёмного вечера нарушало фырканье лошади, да редкие крики Митрофана, требующие лошадку двигаться быстрее.
Софья любила такие поездки. Когда под полозьями санок скрипел снег, создавая свою тихую мелодию, а над головой сверкало яркими звёздами небесное покрывало. Мороз щипал щёки, нос, но укутанной добрым стариком Софье было тепло и уютно.
– Барыня, Софья Андреевна, приехали, – сквозь сладкую дрёму послышался голос Митрофана.
Сани остановились у добротного дома с мезонином. Через щелку массивных ставней пробивалась полоска света. Митрофан только помог Софье сойти с саней, как дверь открылась и показалась укутанная шалью и ещё сверху пушистым платком полная кухарка Пелагея, которая сдёрнув с себя пуховой платок, ловким движением накинула его на плечи Софьи Андреевны.
– Ну, что с вами поделать, горе вы наше! Ну, сколько можно ругаться на вас, барыня? Есть же тулуп. А вы всё раздетая, да по морозу, да в санях. А валенки на что?
– Пелагеюшка, милая, а ты не ругайся. Меня Митрофан достаточно кутает. И печь в избе хорошо топит. И мне и детишкам тепло и сухо. А ещё он нам отвар даёт из трав. Забавный такой старик, право, – улыбаясь, Софья скинула с себя лёгкое пальто и вошла в небольшой каминный зал, обустроенный под английский манер, не забыв всё же накинуть на плечи большой плотный пуховой платок.
– Сонечка, зря вы, милая не бережётесь. Больно холода суровые настали, – еле молвила лежавшая на удобной кушетке старая барыня.
На ней был одет чепец поверх которого накинут тёплый платок. Ночную мягкую сорочку из фланели скрывал тёплый шерстяной халат. И сверху старушку покрывал шотландский и тоже шерстяной плед. Кушетка стояла недалеко от камина, который пожирая ярким пламенем дрова, одаривал комнату слабым теплом.
– Как вы сегодня, Анна Константиновна? – спросила Софья, присев рядом и взяв в свои руки по-стариковски сухую холодную ладонь, – сегодня у вас теплее.
– Что ты, Софочка, я всё так же мёрзну, да и не согреюсь, поди уже. Дай Бог до весны бы дотянуть. Знаешь, не хочется в ледяную землю ложиться. Весной-то лучше. Всё не так холодно.
– Анна Константиновна, милая, ну, что вы право, опять за своё. С кем меня хотите оставить? Как я одна, без вас?
– А всё камины ваши, – поправляя одеяло хозяйки, свисавшее с постели, – бурчала Пелагея, – дров не напастись, а толку от них мало, вот и маетесь на кушетках, а нет, чтобы в своей комнате, да на своей перине.
– Пелагеюшка, Анна Константиновна, который раз говорила, что ей здесь лучше дышится, – Софья Андреевна, присела в кресло у камина и протянула к огню руки, согревая их, – да и хорошо тепло идёт, смотри, как дровишки трещат.
Анна Константиновна улыбнулась, глядя на Софью.
– Софочка, ты меня слушать не хочешь, а я тебе опять скажу. Завещание ты знаешь, уже у поверенного. Как продашь имение, пусть и не дорого его возьмут, но всё же, Николенька мой так… Николай Петрович, завещал, значит, так тому и быть. Вот, продашь и возвращайся к своим в Петербург. Негоже тебе молодые годы на пустое тратить.
– Вы только не переживайте, дорогая Анна Константиновна. Скоро уже весна Вместе, как и раньше было её встретим. А летом вы наварите варенье из земляники.
– Не серди меня, ты мне обещание дала…,– старушка, как могла сильно сжала руку Софьи, – и разговору больше быть не должно. Ну, иди, иди милая, отужинай. А я устала, скажи Палаше, пусть ещё дров подкинет. А то землянику, варенье придумала. Э-ка, какая! Иди, иди, милая. Я спать буду.
– Доброго сна вам, дорогая Анна Константиновна. Пойду к себе.
Пока Палаша устраивала на ночь старую больную хозяйку, Софья вошла в зал, где на большом столе стоял тёплый ужин, заботливо приготовленный для неё. Улыбнувшись обилию деревенской пищи, она съела лишь кусочек плотного с ветчиной омлета и выпила горячего из ещё не остывшего самовара чая с травами и булочкой, которые постоянно печёт услужливая Палаша.
– Опять ничего не поели. И в чём душа теплится? Как так можно одним святым духом питаться, – тихо возмущалась Пелагея, пока Софья Андреевна готовилась ко сну.
Надев длинную тёплую сорочку и закутавшись в пуховой платок, Софья села в большое мягкое, когда-то принадлежавшее Григорию кресло и достала из письменного стола, так же принадлежавшего ему, очередное письмо. Аккуратно открыв запечатанный конверт, она вынула вдвое сложенное письмо. Тусклый свет большой настольной лампы, падал на исписанный каллиграфическим почерком листок.
«… Дорогая милая моя Софья Андреевна. Как хорошо, что вы, не изменяя своих планов, всегда выходите на набережную в одно и то же время. Благодаря вашему постоянству я могу каждый день наблюдать за вами… Если бы вы могли догадаться, как важны для меня эти короткие встречи с вами...»
Софья приложила кружевной платок к глазам, из которых потекли слёзы. Достала чистый лист бумаги и стала писать ответ. В письме она докладывала Григорию, что делала сегодня. Как рады были деревенские дети, когда научились читать и писать новое слово. Она писала обо всём и обо всех, о своих переживаниях за здоровье своей матушки, о хорошем отношении Пелагеи к ней и всё ухудшающемся состоянии его матушки Анны Константиновны.
«Милый сердцу моему Григорий Николаевич, намедни приезжал доктор. Внимательно прослушав вашу маменьку, вынес свой тяжёлый вердикт. Как мне быть дальше? Как я буду без неё? Это положение меня очень удручает. Боюсь, что Анна Константиновна покинет нас раньше весны. Она чувствует это, но и боится этого. Как всё жаль. Иногда, дорогой мой друг, Григорий Николаевич, я бываю очень обижена вас. И вы догадываетесь почему. Я уверена, что вы сами опечалены таким обстоятельством, которое создалось. Но, как же больно и обидно, что ничего нельзя вернуть назад…»
Перечитав своё письмо, Софья Андреевна взяла стоящий на столе в изящной рамке фотопортрет Григория Николаевича.
– Но как же вы так могли… Зачем? – тихо сказала она вслух и поцеловав портрет легла в кровать.
Уже прошло два года, как Софья Андреевна Анисимова перед сном перечитывает письма, которые она читала бы при совсем других обстоятельствах. Тогда, в Петербурге, Григорий оканчивал университет. Однажды, когда Софья, вместе со своей бонной прогуливалась по парку, им навстречу неслась компания возбуждённых, весёлых студентов. Попав в круговорот несущейся и что-то громко говорящей молодежи, Софья растерялась, когда лицом к лицу столкнулась с одним из них. Их взгляды встретились и на несколько секунд они остановились и как завороженные смотрели друг на друга. Им обоим казалось, что эта встреча была неизбежна. И что они были знакомы давно, но по какой-то роковой случайности расстались на время, чтобы обратно встретиться вновь и уже не расставаться никогда.
Пока с замиранием сердца они смотрели друг другу в глаза, остальные друзья Григория, закружили бонну, под её игриво возмущённые возгласы, пока она легонько не ударила одного из студентов своим летним зонтиком.
Вдруг, Григорий наклонился к щеке Софьи, горящей ярким румянцем смущения и, оставив на ней свой быстрый, но горячий поцелуй, быстро слился с остальной компанией друзей. Удаляясь, Григорий несколько раз оглянулся на Софью. Но она не удостоила его поворотом своей изящной головки в его сторону.
Теперь, каждый день они встречались на набережной. Софье казалось, что вот сейчас, сегодня, сию минуту, он подойдёт к ней и представится. А она не откажет ему от последующей встречи. Но он, почему-то не подходил. Только проходя мимо, галантно кивал головой, в знак приветствия.
А Софья сердилась на него. Она никак не могла понять, для чего он её тогда поцеловал? Почему сейчас специально ищет встречи с ней, и она чувствовала это, но никак не решается подойти? Почему всё так?
Софья ждала его слов и мечтала. Под покровом ночи, в постели, она загадывала желание о том, чтобы встреча с любимым состоялась и как можно скорее. Она поняла, что влюблена в этого странного студента. Она мечтала ещё и ещё раз увидеть его. Ждала объяснений и представляла, как всё это будет происходить.
Но однажды, в обычное время, прогуливаясь по набережной, она его не встретила. Софья, не веря в то, что всё закончилось, тревожно прохаживалась и даже задержалась немного дольше обычного на набережной. Но он не пришёл. Не было его и в другой раз, и потом через месяц. Софья была чрезвычайно расстроена таким обстоятельством. Сердясь на саму себя и как ей казалось, на свои глупые, девичьи мечтания, она пыталась забыть своего возлюбленного, выкинуть его из сердца. Но у неё ничего не получалось. Его образ, статная фигура и эти глаза… Ах, эти глаза!
– Нет, такие глаза лгать не могут. С ним что-то произошло, – думала она в отчаянии.
И что за таинство природы? Как ей было страшно, когда она поняла, что этим чёрным мыслям, суждено было исполниться.
Однажды на прогулке к ней подошёл молодой человек в сюртуке с иголочки и цилиндре. Приподняв его в приветствии, он спросил её, не является ли она Софьей Андреевной Анисимовой и, услышав утвердительный ответ, спросил ещё:
– А не помните ли вы молодого человека, с которым вам приходилось видеться на прогулке двумя месяцами назад?
– Что с ним? Умоляю, скажите быстрее, что с ним произошло? И кто вы?
– Простите за оплошность не представиться вам сразу. Моё имя Иван Сергеевич Неведомский. Я был другом Григорию Николаевичу.
– Почему был? – Софья с испугом смотрела на него.
– Да… Был… Случилось непредвиденное. Мне пришлось стать невольным свидетелем ваших, на первый взгляд, странных взаимоотношений, – смущённо проговорил Иван Сергеевич, опустив глаза.
– К сожалению, у нас не было никаких взаимоотношений, – только губами произнесла Софья.
– Да, да! Конечно. Я понимаю. И всё же… Григорий, в тот день шёл к вам с твёрдым намерением представиться… Но увидел, как в Неве тонул мальчишка… мальчик…
Софья побледнела и приложила руку в кружевной перчатке ко рту, чтобы не закричать от того, что сейчас произнесёт этот господин. Она с ужасом и мольбой во взгляде, смотрела на посланца, который принёс страшную для неё весть.
– Не скинув шинели, он прыгнул за ним…
– Нет, нет, это невозможно, – тихо произнесла она и лишилась чувств.
Она не помнила, как Иван Сергеевич любезно помог ей дойти до дома. Как они сидели в гостиной, и он рассказывал о страданиях и стеснениях своего друга. О нежной любви Григория к ней, Сонечке.
– Софья Андреевна, позвольте мне в доказательство моих слов, передать вам это. Я счёл необходимым отдать их вам. Было бы несправедливо, если бы вы никогда не узнали об искренних чувствах моего друга.
Иван Сергеевич достал из внутреннего кармана сюртука перевязанную атласной тесьмой стопку запечатанных писем, на конвертах, которых значилось: «Для Софьи Андреевны Анисимовой от Г.Н. Звонарёва».
Когда посланец горькой вести удалился, Софья ещё долго сидела неподвижно, глядя в одну точку. Ещё нескоро она смогла прийти в себя, от всего произошедшего и прочитать строчки из писем, в которых Григорий открывал ей свои чувства, и через которые ей пришлось сожалеть о том, что их встрече не суждено было произойти.
«…Милый мой Ангел, Софья Андреевна, на днях, я наведался к своим родителям… Софья, простите, но я не смог не открыться перед ними и рассказал о своих чувствах к вам… Они, узнав о моей искренней любви, уже полюбили вас…».
«…Я представляю, как мы с вами заживём в нашем имении, только если это будет и ваше желание… Будем учить крестьянских детей грамоте…А летом! Какое чудо у нас летом!»
С наступлением лета Софья Андреевна поехала к одиноким родителям Григория Николаевича, которые не ожидали такого чуда и были несказанно рады её приезду. Приняли они Соню и полюбили, как дочь. Оберегали её, как оберегал бы ее, их Гришенька. Приехав в усадьбу Звонарёвых на время, для того, чтобы познакомиться с одинокими стариками и посетить могилку Григория, Софья в дальнейшем не смогла оставить их одних. Она занялась обучением детей из ближайших деревень грамоте и писала письма Григорию.
Сначала она читала и перечитывала его письма. Потом на каждое из них отвечала так, как это было бы при его жизни. А потом в письмах стала делиться с ним делами, проделанными за день. Такое общение с Григорием у неё вошло в привычку, и она уже не могла обойтись без такого диалога с душой своего возлюбленного. Она вкладывала исписанные листки в чистый конверт и писала на нём: «Для Григория Николаевича Звонарёва от Софьи Андреевны Анисимовой» и складывала в большом ящике его письменного стола.