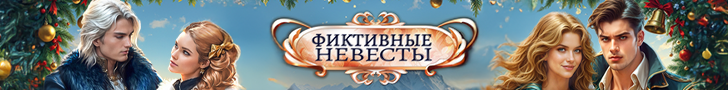Черная звезда
Глава 1
Я подписывалась на разное, но на такое — еще никогда.
Открываю глаза. Черный от копоти потолок, темные стены с сырыми углами, в которых серебрится то ли иней, то ли паутина. Печь топилась давно, но косматая свалявшаяся шкура, на которой я лежу, и не менее косматый огромный вонючий тулуп сверху, который давит и мешает дышать, но греет, третий день не дают мне замерзнуть. Третий или четвертый, на самом деле я не знаю. Запах псины, кислятины, мокрой сажи, дерьма, дыма, смерти — наверняка есть. Я или привыкла и не замечаю его, или не чувствую из-за болезни. Я лежу, едва разлепив глаза, с трудом держу их открытыми. Слежу за тем, как трое мужиков свободно ходят по дому, заглядывают в лари, сундуки, выворачивают единственный в обозримом пространстве громоздкий низкий шкаф, неумело, по-детски расписанный аляпистыми красными и синими цветами. Ищут деньги или чем еще поживиться в доме, где все мертвы, а кто не мертв, скоро умрет.
Вернее, двое ходят, третий, в черном балахоне, терпит их мародерские поиски, сухо и громко щелкая крупными яшмовыми четками. Как метроном. Щелк. Щелк. Щелк. Священник, жрец, шаман, — я не знаю пока, кто этот человек в бесформенной одежде до пят, который не участвует в разграблении, — смиренно ждет, пока они закончат. Ну, как смиренно — желваки у него по щекам ходят будь здоров, но он делает над собой усилие и сдерживается. Не торопит, обходится без замечаний. Те двое на него коротко поглядывают: еще можно? мы поищем?..
Этот же смотрит на меня, сузив зенки. А я на него. Что он видит, я не знаю. Понятия не имею, как выгляжу в этот раз. У него внешность блеклая. Он никакой. Тощий, костистый. Бесцветные волосы засален и зачесаны назад. Только глаза жгутся льдом. Его возраст мне тоже не определить. Во-первых, все тут грязны. Нарочно грязны. Обмазаны чем-то, чтобы уберечься от заразы — десять минут назад он наклонился надо мной, проверить, жива ли, — я даже плохо дышащим носом уловила запах дегтя. Во-вторых, рот у него, как и у тех двух, завязан тряпкой. Рот завязан, а нос снаружи. Если это меры против эпидемии — кто учил их санитарным правилам? Так защищать себя все равно, что небо красить. Иногда удается заметить, как ткань на лице шевелится — губы беззвучно произносят слово-другое молитвы. Про себя называю его балахонник.
Глаза у балахонника злые, или мне кажется в полумраке. Он зол не на меня. Может, я придумываю, и он не молится, а матерится. Но он только что меня спас от сбрасывания на ледяной пол, где я точно загнулась бы, потому что обратно на лавку могла бы и не влезть. Пока была одна, я уже пыталась спуститься по надобности. Чуть не сдохла, столько это отняло у меня сил. Балахонник сказал своим бугаям-мародерам:
— Эту не трогать! Эта не в вашей власти. Умрет — придете снова!
Смотрю ожесточенно: не дождетесь! Балахонник впервые отводит взгляд. Заметил, что я не в бреду и его понимаю. Не могу отделаться от собственного изолированного восприятия — взгляда существа, не принадлежащего этому миру: словно я не здесь, не с ними, не по уши в дерьме, а смотрю за всем происходящим со стороны. Да, я могла бы оказаться не под вонючим тулупом, а на месте этого служителя неведомого мне культа. Теоретически. Обычно Искра проводит из человека в человека точно, но и у нее случаются промашки. Так что я тебя понимаю, дядя. Тебе не нравится эта работа. Тебе не нравится эта грязная жизнь. Тебе противно. И мне противно. И денег вы не найдете. Возможно, в этом убогом доме их вовсе нет. Просто дождемся окончания спектакля, и каждый пойдет своей дорогой. Я — выполнять задание, зажигать погасший маяк, ты... ну, куда ты там шел. Мертвецов по опустевшим домам собирать, наверное.
У балахонника нет причин меня стесняться, но я ему не нравлюсь, и он чувствует, что сказанул при мне лишнее. Лицо духовное должно дарить людям надежду, а не обещание смерти и возврат похоронной команды. Мародерам я не нравлюсь тоже — приходить за мной еще раз, дважды делать одну и ту же работу. В свою очередь, мародеры не нравятся балахоннику. А он не нравится им. Про меня и говорить нечего. Мне не нравится здесь ничего. Ничего и никто. Мир, в котором никто никого не любит. Все устроено наперекосяк. Все всеми недовольны. Грязно, сыро, гадко и воняет.
Совсем уж говенных миров среди связанных Искрой не так много, и они обычно проходные. Такие, чтоб совсем тьма-тьмущая беспросветная, засилье злобы, грязи и низких инстинктов. Мы в них не задерживаемся. В таких не ведется никакой работы, так как слишком много рисков. Просто выставлен маяк — мир найден, мир присоединен и ждет до каких-нибудь лучших времен. Когда будут подвижки в просветление, когда мир сам с собой разберется. Станет поблагостнее, поблгодатнее. Попроще. Но говенные миры все-таки есть, и я, кажется, в одном из них.
Командует бригадой труповозов именно балахонник. Через четверть часа бесплодных поисков он велел одному бугаю развести в печи огонь — не для меня, а на помин душ усопших, совершить обряд, бросить в огонь листки с отходными молитвами — он здесь якобы для этого. И тот пихает кучу дров, устраивает тучу дыма, хотя огромная, на половину дома, печь, слава Искре, топится не по-черному. Дым подбирается под низкий потолок и плещется там серым маревом, от которого мир для меня начинает качаться, и я сначала думаю, что это все видимое вообще, не только дым, это бред, морок. Но бугаи пригибаются и кашляют, и я возвращаюсь в насущную для меня реальность.
Другому бугаю балахонник дает указание напоить меня гадкой кислятиной — смешанным с водой вином — из поясной фляги.
Сам балахонник ни разу не коснулся меня и никакой работой рук не запачкал, даже самой мелочью — раздвинуть ставни, открыть-закрыть дверь. Только указывал и жег в печи поминальные бумажки под бормотание и сухой стук четок.
К кислятине я припала как к живоносному источнику, наплевав, что я опасна для здоровых, и пить со мной из одной посуды им нельзя. Сунувший мне флягу лось убил бы меня, не заметив и не задумавшись. Я это чувствую. Почти читаю его несложные мысли. Я никто. Забрал бы живую вместе с трупами на мороз — все, что у него в голове, читается во взгляде. Мое счастье, что балахонник более нравственен, и они его слушаются. Чем болеет лось, и можно ли пить из одной фляги с ним, знать не хочу. Глотаю, давлюсь, цепляюсь за флягу, когда он пытается ее отнять. Выпиваю все, что там есть, около литра живительной влаги. Мародер кроет меня руганью сквозь зубы, «клещ» и «пиявка» самые ласковые его эпитеты, однако балахоннику возразить не смеет. В конце заслоняет меня от его взора и бьет по пальцам,фляга лязгает мне по зубам, но она уже пуста.
#9322 в Попаданцы
#7660 в Попаданцы в другие миры
#28774 в Фэнтези
#825 в Тёмное фэнтези
Отредактировано: 25.09.2024