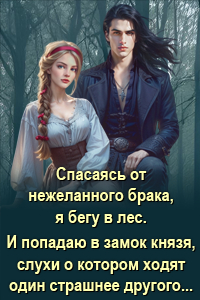Демьяново урочище
Демьяново урочище
I
В Шатуру я не хотел. Я безмерно устал от блеклого однообразия наших широт, скверных дорог, брошенных деревень, всеобщего сонного равнодушия и слепой готовности безропотно принимать всё происходящее. Я вдоволь налюбовался этим. Без малого тридцать лет я бродил здесь, смотрел, слушал, впитывал в себя этот воздух, это небо, эти звёзды, этот неспешный местный говор и окольный ход мысли. Я знал все города и городишки в области, все дороги и переезды, броды и тупики, озёра и реки, поймы и чащобы, трясины и урочища. Пешком, на велосипеде или на лёгкой лодке я пробирался в самые непреступные глубины Мещёрских болот и нередко, задерживался там подолгу, живя в крохотной палатке на каком-нибудь затерянном островке, питаясь пойманной рыбой, сухарями и чаем, смоля бесчисленные папиросы и мало беспокоясь о чём либо. Да и о чём было беспокоиться? Людей я не боялся, а что до болот, то все истории о таящемся здесь зле, меня никогда не трогали. Слишком много дней и ночей я провёл в одиночестве среди старых топей и за долгие годы шатаний нигде так и не встретил ни лешего, ни кикимору, ни молчуна*, ни прочей нечисти, коей наш край якобы столь богат.
Впрочем, если верить местным старожилам, я, пожалуй, был единственным человеком в округе, кто не сталкивался с болотным злом. Быть может, мне просто везло, а может, всему виной было моё скудное воображение и въедливая привычка рассуждать здраво. Этим я всегда был не похож на своего младшего брата – озорного, говорливого, быстрого в суждениях человека и неутомимого фантазёра. Для него лес всегда был полон загадок, а окрестные болота жили иной, таинственной жизнью, которую не стоило тревожить. Он так же как я любил заповедные тропы и всегда приносил оттуда нечто большее, чем простое единение с девственной природой. Его будоражащие ум истории о призраках, являющихся ночью с болот и заглядывающих в окна здорово пугали других ребят, но не меня. Даже Ушма, жуткая болотная ведьма, полновластная властительница здешних земель, рассказы о которой я часто слышал в округе, меня не ужасала. Лес вообще никогда не казался мне чужим. Его голос был приветлив и спокоен и вступая под его покровы я всегда ощущал только покой.
Помню мальчишкой, на спор, мне нужно было пробраться в полной темноте на соседнее болотце, а в доказательство что я был там, принести горсть пахучей и жёсткой болотной травы. Ко всеобщему удивлению, я легко прошёл это испытание, потому что искренне не понимал, что может быть такого страшного в этом простом действии. Главная опасность ночного приключения представлялась мне лишь в том, что в темноте я мог сбиться с пути и промочить ноги. Помнится я спокойно шагал по узкой тропинке под пронзительным взором звёзд и испугался лишь один раз, когда принял неподвижно сидящую в темноте соседскую овчарку за корягу и на мгновенье остолбенел от ужаса, когда «коряга» неожиданно ожила и умчалась прочь.
Несомненно, в глубине душе я любил этот тихий край, считая его своё единственной Родиной. Его печальное уныние всегда наполняло меня спокойной, меланхоличной отрешённостью. После вечной московской сутолоки было приятно окунуться в эту несусветную глушь и подолгу бесцельно брести по кромке болот куда глаза глядят, слушая монотонное пения сухой осоки, ни о чём не думая и никуда не спеша.
Но всему есть предел. С годами, бесконечная сонливость Мещёры, её вечная сырость, заброшенность, оторванность от всего живого начала тяготить меня. Юг на долгие годы пленил меня. Я с головой отдался своей новой страсти и утолил её сполна, путешествуя при каждой удобной возможности и заезжая на дачу только по острой необходимости.
То были счастливые дни. Хрупкие руины Карфагена, извилистые переулки Иерусалима, ночные огни Стамбула, величественный Парфенон, маслянистое тепло Мёртвого моря, зеленоватый, пахучий, переливающийся под жарким солнцем Нил, раскалённый Луксор, мерцающая на закате Долина царей, громады Великих пирамид, мерный гул ночного Каира и промытая морем свежесть вечно юной Александрии проплывали перед моим взором. Моё сердце трепетало и пело. В конце концов, даже древнее пианино, что много лет пылилось в моей квартире каждую весну негромко «пело», когда старые соки пробуждались в нём, а я был живым, хотя, порой, мне самому это казалось странным.
Брат понимал меня. Сам он никогда не изменял Мещёре, но радовался за меня всем сердцем. Поначалу, мне было странно, что человек с такой пылкой душой готов довольствоваться столь малым. Пока он был жив, я подолгу рассказывал ему о своих путевых впечатлениях и неизменно звал с собой, но он лишь улыбался и качал головой. Он и сам был странником, просто тогда я этого не понимал. Он видел в этой древней земле нечто большее. Нечто сокровенное, пугающее, зовущее. Нечто не из мира людей. Нечто, стоившее ему рассудка и жизни.
Той осенью страсть к перемене мест вновь овладела мной и я твёрдо решил направиться на юг. Я старательно листал и перелистывал свои старые путеводители, просматривал истрёпанные и исчёрканные карты южных городов, перебирал камни, собранные повсюду, где я был и грезил, грезил, грезил. Давно забытые чувства оживали во мне, и я был почти счастлив. Но вот, когда всё уже было точно определено, мой потёртый чемодан был наполнен всякой всячиной, а сам я уже пребывал в дорожной эйфории, что-то щёлкнуло в огромном механизме Вселенной, какие-то невидимые колёсики сдвинулись (или продолжили свой ход), сделали оборот, потом другой, третий и, сам того не понимая, как это произошло, я обнаружил себя стоящим на ветхой платформе Шатурторф, с рюкзаком за плечами, тремя неделями отпуска и острым ощущением нереальности всего происходящего.
По старой привычке, не дожидаясь отхода электрички, я спрыгнул на землю с другой стороны платформы, прошёл немного вперёд и попал в объятья старика Дорофеева, который, на радостях, даже слегка прослезился и украдкой вытер глаза.
- Ветер… - хрипло объяснил он, хмурясь и покашливая, но его хитрые, проворные глаза браконьера и самогонщика, предательски блестели.
- Да, задувает… - согласился я, всё ещё пребывая в полусне.
- Осень…
- Да… Осень...
Мы неловко помолчали, оглядывая друг друга.
- Ну, пойдём, что ли? – не выдержал он. - Чего стоять то? Галинишна уж стол накрыла… Всё ждёт!
Он легко подхватил мой рюкзак и мы направились к машине. Косолапо вышагивающий рядом Дорофеев поминутно смотрел на меня, улыбался и словно не веря своей удаче, похлопывая по плечу. Точно также вёл себя мой отец, когда встречал меня здесь же, много, много лет назад. Как и тогда, я смущался и злился на себя, не желая признавать, как дороги мне были эти взгляды и прикосновения.
Ничто не менялось тут. Всё те же приземистые домики были разбросаны вокруг железнодорожного полотна, всё та же неказистая и неряшливая станция тянулась вдоль разбитой платформы, всё та же пыль висела в воздухе и даже бабки, четверть века торгующие грибами и ягодами, кажется, ничуть не изменились. Я с удовольствием вдыхал запах шпал, торфа, сухой луговой травы и затухающий вдали стук колёс протяжно отдавался в моём сердце, навевая не то грусть, не то радость.
Мы запрыгнули в ветхую «Ниву» и покатили по донельзя разбитой дороге прочь от станции, забираясь всё дальше и дальше вглубь лесов, оставляя за спиной остатки цивилизации. Я был немного хмур и расстроен, но старая любовь постепенно брала своё. Всё-таки было что-то нестерпимо притягательное в этом дремучем просторе, скрывающим свою трепетную душу под грубой шкурой болот.
До боли знакомый пейзаж мелькал за окном, привычные повороты появлялись один за другим, заросшие поля сменялись перелесками, сосны - берёзами, и будто сама молодость вновь проносилась перед моими глазами. Всё было привычным и милым как лицо матери и я, сам того не замечая, начал улыбаться.
Дорофеев, не вынимая изо рта уродливой трубки, что-то говорил, шутил, смеялся, и синий дым шёл из его белозубого рта и тонкого, хищного носа. Он поминутно хлопал меня по бедру и был так очевидно рад моему приезду, что его радость постепенно передавалась и мне. Проехав поворот к старым дачам, мы вскоре свернули в лес и по просёлку проколбыхались ещё несколько километров до деревни. Я опустил окно и с удовольствием вдохнул полевой воздух.
- Красота! - выдохнул я.
- Что говоришь? – заёрзал Дорофеев.
- Я говорю – здорово!
- А-а-а… - протянул старик. – Это да... Говорят, дорогу сделают следующим летом…
- И давно говорят?.. – усмехнулся я.
- Давно… - смиренно кивнул Дорофеев. – Но когда-нибудь сделают...
Мы въехали в деревню и вздымая облака пыли покатили к его дому. Со смешанными чувствами я осматривал старые улочки, серые, покосившиеся заборы, убогие дома с крохотными оконцами, брошенные коровники с обрушившейся крышей, давно закрытую гнилую почту, кирпичную водонапорную башню, покинутую и изувеченную, но всё ещё стоящую прямо и гордо, словно остатки древнего замка среди крестьянских лачуг. Лишь новенькие спутниковые тарелки – предмет неизменной гордости их хозяев - красующиеся на драных избах, говорили о том, что цивилизация, мимоходом, всё же коснулась этих мест.
Это не было похоже на благородную старость французских деревень, которые и деревнями то назвать было трудно, с их каменными домами, ухоженными улицами, магазинами и аккуратными кафе. То была старость одинокого, нищего и безнадёжно больного человека, уродливая и отталкивающая. Немощь плоти, когда душа уже мертва, но тело продолжает упорно существовать, становясь отвратительной пародией на человека, некогда сильного и своенравного.
Только на восточной окраине деревни, на самом высоком месте, у дубовой рощи, сияли несколько новых хозяйств. Москвичи с соседних дач, устав от болезненной низины и комарья, перебирались сюда, на простор, недорого покупая пустующие участки и выстраивая на них большие аляповатые дома, некоторые из которых, впрочем, были по-своему весьма любопытны.
*- Молчун - несчастный утопленник, из тех, что сгинул, да так и не был найден и теперь обречён скитаться среди болот осенними ночами в поисках тепла. Молчуны «нередко» заглядывают на огонёк к припозднившимся охотникам и рыбакам и, просидев там молча до рассвета, таинственно исчезают