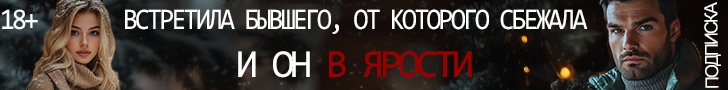Дети пепла и звёзд
Глава 1.
1910 год. Берлин.
Ох, мать честная, ну и денёк! Ноги отваливались, несся по булыжникам, пятки голые об камни в кровь, а мне хоть бы хны! Азарт такой, что аж в ушах звон, пока от этих усатых городовых линял. Да, я карманник, ворюга, и чё? Когда вся эта паршивая жизнь тебя раком ставит, приходится крутиться, как можешь. Чё зенки-то повыкатывали? Будто я вам что-то должен!
Так вот. Срезал я бумажник у одного богатенького лошары. Сам олень, нечего было на какую-то бабу в цветастом платье пялиться. Все беды от этих баб, сколько раз себе говорил! Но это его проблемы, а у меня, если не сцапают, брюхо сегодня будет набито до отвала.
Жалко только башмаки свои проворонил. Они и так не мои были, где-то на помойке отрыл, а тут совсем с ног слетели. Ну и хрен с ними! Бумажник жирный, на новые опорки точно наскребу, ещё и на хавку останется.
Так, вот подворотня, теперь в щель между домами, тут, как в крысиных норах, только я и шарю. Ага, какая-то бабища в платке в парадняк юркнула, за ней! Вроде ушёл.
Стоял в потёмках на лестнице, дышал как загнанный пёс, сердце казалось из грудака вылетит. Но это всё херня, главное – хвоста скинул. Помаленьку отдышался, варенка начала соображать, что дальше.
Плюхнулся на ступеньку, аж задница взмокла. Расковырял бумажник, а там — три сотни! Целковые, хрустят, новенькие, зараза. Гуляй, рванина! Берлин, держись, сегодня я тебя потрясу! Но сначала надо в одно место заскочить, большую часть в заначку спихнуть. Знаю я своих ушлёпков, обдерут ведь, как липку, до последней копейки. А так скажу, что лысый буржуй жмотяра попался, каких поискать.
Подождал, пока эти шестерки, что покой страны от нищебродов охраняют, свалят окончательно, и высыпался из парадняка. Почесал куда глаза глядят. Башка, мокрая от дождя, чешется, вши, мать их, одолели, как и всё тело. Вот разбогатею, хрен меня какая гнида больше побеспокоит! Есть у меня один кореш, Ларс, так он пообещал, что как только стукнет мне четырнадцать, а это ещё пару лет кантоваться, то приобщит меня к воровскому делу. Буду бабки нехилые зашибать.
Буду башмаки заказывать каждый месяц новые, да и вообще, будет у меня их целый шкаф! Фига с два эти шестерки меня тогда поймают, хрен им в зубы.
Заначка моя была в такой дыре, что туда даже шавки не совались, чтоб потолок им на башку не рухнул. А мы чё? Шавки, что ли? Зато там кирпич козырный лежит. Бабки из-под него вытаскиваю, кирпич отпихиваю, бабки под него, и кирпич на место. Вот и весь фокус-покус. Каждый день этот гадюшник проверяю, мало ли, взбредёт какому-нибудь хрену с горы его снести.
Ну а пока, сунул в кошелек полтос пфеннигов на карманные расходы, и почапал в сторону трактира "У Фрица", что в паре кварталов отсюда. Часам к пяти туда должен подтянуться мой кореш Билл. Ему как раз и сбагрю кошелёк.
А пока надо башмаков прикупить, а то стыдоба — хожу, как последний оборванец. Надо шикануть, гулять так гулять! Может, еще и на хавчик останется, брюхо набить. А то от этих вшей уже и аппетит пропал, совсем худо.
Ну и вонь на улице, как всегда. Не то чтобы совсем кранты, дышать нечем, но воздух такой, что хоть топор вешай, плотный, городской. Дымом тянет от труб фабрик и заводов, перегаром от пьянчуг, что рыхлыми тушами по углам валяются, а из пекарен сдобным духом так и манит, аж слюни текут, как у бешеной шавки. Но нет, хрен им, покупать не буду, лучше на халяву где-нибудь брюхо набью.
Небо пасмурное, смотреть тошно. Серо и уныло всё вокруг, как под юбкой у старой шлюхи, возомнившей себя фифой с панели. С души воротит от этой осени, мразота, а не время года. Хоть бы снег уже выпал, что ли, хоть какое-то разнообразие. А то эта слякоть и грязь уже в печенках сидят. Да и вши, опять же, от сырости еще больше достают. Быстрей бы уже в тепло куда-нибудь, в ту же рыгаловку, хоть отогреюсь немного.
Заприметив, как за моей спиной замаячили фигуры городовых, я, с непринуждённым видом юркнул в темный переулок. Этот гадюшник, кишащий крысами и жирными ленивыми котами, вел прямиком на рынок, а если быть точнее, то к обувной лавке. Сунув руки в карманы своих непомерно широких штанин, которые, казалось, могли вместить в себя все мое нехитрое имущество, я, словно франт, смерил взглядом торгаша. Этот барыга, не покладая рук, усердно наяривал пару ботинок, стремясь, чтоб те сияли, как зеркало, затмевая своим блеском даже солнце. Мой шкетавский рост не помешал мне свысока зыркнуть на него.
— Есть чё путнее на мою лапу? — бросил я ему через плечо, стараясь, чтобы голос звучал как можно более грубо и угрожающе.
— На помойке пошарься, там и найдешь себе обновку по размеру, — огрызнулся торгаш, не отрываясь от своего усердного натирания. В его голосе сквозило неприкрытое пренебрежение.
— Да ты сам, гнида, скоро на помойке окажешься, если будешь так базарить! — вскипел я, чувствуя, как внутри закипает злость. — Бабки есть, раз спрашиваю. Сколько твоя обувка паршивая стоит?
— Пятнадцать пфеннигов, — буркнул торгаш, наконец удостоив меня взглядом. — Но тебе, шкет, не светит. Нечего тебе тут товар пачкать. С такими ногами грязными, как у тебя, я тебе тут ничего мерить не дам. Ишь, чего захотел, щегол! — торговец брезгливо поморщился, будто я был не покупателем, а куском грязи, прилипшим к его драгоценному товару.
— Слышь, ты, барыга? — я аж подался вперед, упершись руками в прилавок, от возмущения. — Да за такие деньжищи ты сам мне ноги мыть должен, да еще и с мылом душистым, и чтоб потом целовал каждый палец, как величайшую реликвию! — Но коль ты, хамло такое, невоспитанное, на грубость перешел, то знай - в жизни поганой своей ногой к твоей грязной, как и твоя душонка, обуви не притронусь! И даже когда стану богатым, а ты будешь подыхать в нищете, моля о пощаде, я и ломаного пфеннига тебе не протяну! И не надейся, падла! — с этими словами я смачно плюнул на начищенные до блеска ботинки, оставив на них мутный, грязный след. — Вот помрет мой папаша, царствие ему небесное, - банкир, каких мало, все его состояние мне перейдет! И тогда мы еще посмотрим, кто на помойке окажется, а кто в золоте купаться будет! Бог, он не Тимошка, видит немножко, запомни мои слова!
Отредактировано: 05.02.2025