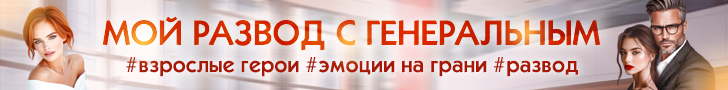Девять дней.
Девять дней.
– Начинайте считать, Ирочка, – сказал симпатичный анестезиолог, спрятавший аккуратную бородку за голубой бумажной маской, – от десяти к одному...
– Десять, – проблеяла я трясущимся от страха голосом, косясь на операционную сестру, воткнувшую в бутылочку на капельнице осиное жало иглы.
– Девять, – поршень ушел в пластик шприца до упора. Заложило уши.
– Восемь, – сестра исчезла из поля зрения, зато анестезиолог внимательно всматривался мне в лицо, нависая над головой.
– Семь, – веки отяжелели, я таращила глаза изо всех сил, сопротивляясь действию наркоза.
– Шесть, – все размылось. Последнее, что я помню – это исчезнувший куда-то страх, и ставший неподатливым язык. На счёт «пять» меня уже не хватило.
Все умирают по-разному. Я умерла на операционном столе, 18 марта, в 11 часов 34 минуты. Со странным спокойствием наблюдая откуда-то из-под потолка, как суетится бригада медиков над моим безжизненным телом. Мне хотелось прошептать им «не надо», когда они взялись за реанимационные мероприятия. Мой раскрытый живот, с торчащими из него зажимами и дренажными трубками больше никого не интересовал. Что и не удивительно. Кому может быть интересен перитонит, если у пациента внезапная остановка сердца? Да и операция почти завершилась.
Сначала я могла только смотреть, словно от меня остались одни глаза. Слух вернулся чуть позже. Было странно видеть своё запрокинутое лицо – бледное и очень спокойное. Ещё более странно звучали тревожный писк аппаратуры и отрывистые сухие фразы врачей, пытавшихся вернуть меня к жизни. Меня? Слабое удивление пробилось сквозь ватную отрешённость. Я попыталась поднять руку, но её не было. Я её чувствовала, но не видела. Руки, ноги и вся остальная я лежали внизу, прямо подо мной. Дежурный хирург жестом обречённого стянул с лица маску, хрипло обронив:
– Фиксируем. Смерть наступила в 11-46...
Да нет же! Вы ошиблись на целых двенадцать минут...
День первый
Оказалось, что мне сложно оторваться от своего тела, такого привычного и такого бесполезного сейчас... Его-меня накрыли простынёй и вывезли из операционной на той же самой каталке, на которой туда привезли, и которая так и оставалась стоять в коридоре. Молодой санитар в синем проворно вкатил свой груз в лифт, клацнула, захлопываясь, дверь с круглыми, «водолазными» окошечками-иллюминаторами. Если бы я не оказалась бесплотной тенью, то вот так нависать над парнишкой у меня бы не вышло – места было маловато. Восприятие оставалось ровным, отстранённо-любопытствующим, словно на ту, кем я теперь стала, всё ещё действовал наркоз.
Пропутешествовав за каталкой по мрачноватой кишке подвального коридора до железных, выкрашенных серой краской дверей, с отметающей всякие иллюзии надписью «морг», я убедилась, что способна испытывать слабое эхо эмоций. Неожиданно всплыло всё, что я когда-либо представляла себе об этом месте, и что-то похожее на страх впервые коснулось заторможенных чувств. Я не хотела оказаться за этими дверьми! Но оказалась, влетев внутрь за накрытым простынёй телом, словно была воздушным шариком, привязанным за ниточку к никелированному бортику каталки.
Заметавшись у самого потолка, под слабо гудящими лампами, я испытала приступ паники. Парнишка-санитар передал какие-то бумаги другому, тоже молодому, санитару. Или врачу?
– Свистельникова Ирина Анатольевна. Двадцать семь лет. Эта, что ли, из первой хирургии? – буднично спросил он. – Уже звонили. Патологоанатома вызвал, ага. Вскрытие. Бедняга Толмачёв, второй труп на столе за месяц...
Он откинул простынь с моего лица.
– Красивая.
Я почти не слышала, о чём они говорят – произнесённое вслух имя обрушило стену, отгородившую меня от воспоминаний, и они хлынули обжигающей волной.
Мама. Молодая, хохочущая надо мной. Я, лет трёх от роду, важно шаркающая по комнате старой нашей квартиры в её «выходных» лаковых туфлях...
Папино лицо – голубоватое, спокойное, в окружениии гвоздик, которых полон гроб, и бабушкин шипящий шёпот: «Поцелуй папу, деточка, поцелуй». Я не смогла...
Отчего-то – море. Спокойный набег невысокой волны на гладкие окатыши камней...
Никита. Вернее – его тёплая грудь под белой рубашкой, и толчки сердца, которые я ощущала всем своим телом, пока он нёс меня на руках по ступенькам ЗАГСа вниз, к украшенной кольцами и лентами машине.
Сашенька. Сморщенная, красно-коричневая, совершенно обезьянья мордашка, с кривящимся ротиком. Её первый крик... Сашка!
Я метнулась туда-сюда, в поисках выхода. Ужас долбился в стены, рикошетил обратно в меня, усиливаясь, гремя, грохоча...
– Н-е-е-е-е-т! Я не могу умирать! Мне нельзя! У меня дочь!
Я кричала, срывая горло, чувствуя, как наливается кровью лицо. Лицо, которого у меня больше не было...
#39426 в Разное
#10675 в Драма
#10526 в Мистика/Ужасы
#4565 в Паранормальное
Отредактировано: 26.02.2018