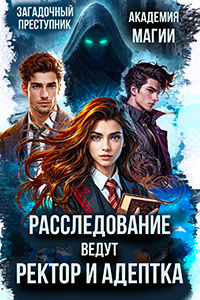Добрыми делами
Добрыми делами
Едва пробилась у Никифора Афанасьевича борода, а он уже приступил к служению в небольшой церквушке святителя Спиридона, что в Малой Смирновке N-ского уезда.
Прихожане приняли нового причетника с теплотой, подметив его беззлобивый, но по-взрослому настойчивый и твердый нрав. Не остались без внимания и его доброделания, за которые Никифор взялся всерьез, щедро совершая их, если являлась такая нужда, или по потребности сердца, если нужды не значилось.
Односельчане приняли в привычку осыпать парня похвалами, чем жестоко ему докучали, а иногда и сердили. Это приводило старушек в удивление.
Впрочем, в тесноте деревеньки, сжатой обступающими ее полями, Никифору не дышалось, и он приобрел скромную, но крепенькую избушку на привольном берегу озера Круглого, что в пешей близости от Смирновки. Безлюдная береговая полоса радовала его своей живописностью, тихостью и уловистой рыбалкой. А потому сразу и навек прирос он к этому берегу.
Устроился новый хозяин серьезно и уже следующим летом заложил основание для большой и просторной избы, дабы не ютиться в тесноте, когда семейство ожидаемо и обязательно разрастется. И правда, вскоре после новоселья, Аришенька – молоденькая супруга его, родила ему сына, крещенного в местной церковке именем Федор.
Никифор радовался первенцу безмерно, а как тот чуть подрос, шагу без мальчика не ступал, таскал его за собою в церковь, в поле и на свою неизменную рыбалку. А уж если отцу приходилось куда отлучиться самому, то малыш цеплялся неотрывным хвостиком или кидался в те цепкие детские объятия, которые не разомкнуть без громких слез. И юная Аришенька сама обливалась слезами, полагая страдания мальца непереносимыми.
Но мало-помалу подобные сладковатые слезы выветрились истинными несчастьями: все последующие, рождаемые ею дети, умирали, и она рыдала уже слезами настоящего горя, вкус которых обжигает душу неисцелимо. Спасала ее только забота Никифора – ее Никишеньки. В такие времена он окутывал Аришу особой теплотой, бросал все дела и много с нею говорил, рассказывая о разных странах, диковинах и загадочных Божиих премудростях, о которых узнал в своем монастырском детстве. И она утешалась его неотступной близостью и легче переносила горе.
Но сам Никифор с тяжелой болью в душе принимал такие удары, и не сразу смирялся. Поначалу он черствел, становился хмурым и мрачным, подолгу молился, и неделями приходил в себя. Но, восстановив душевные силы, Никиша вновь брался за доброделания, и вновь пускался в дальнейший путь, полный светлых устремлений.
Так провело это доброе семейство одиннадцать лет, в которые Федя был единственным их чадом, окруженным заботой и любовью. Впрочем, родители его, обожженные и отрезвленные несчастьями, сына своего избалованностью не питали, да и сам он к избытку внимания поостыл по природной своей скромности.
К двенадцатому году, когда Никифор уж одолел третий десяток лет, родился у них крепенький малыш, крещенный именем Игнатий.
В радость и благоденствие окунулись эти славные люди, одолевшие страшные годы испытаний и дожившие до утешительной поры.
Домовое хозяйство разрослось, несмотря на безрассудные раздаяния, совершаемые Никифором втайне от Аришеньки, а ею втайне от Никишеньки.
Бывало, раздаст она половину выпеченных в заготовку хлебов без ведома мужа, а он втайне вторую половину, полагая, что хлеб еще есть. А вечером, когда сядут ужинать, и тайное раскроется, рассмеются, развеселятся, станут посреди избы, обнимутся молча за плечи, и смотрят друг на друга озорными и блестящими от счастья глазами, да все хохочут. И Федя промеж них заливается до икоты, а сам и не знает над чем. Ну а ужинают уж так. Без хлеба.
Но милостью Божией и неотступностью да трудолюбием Никифорова семейства изба вскоре с достатком набилась всем нужным убранством, а двор заселился разнообразной, потребной для безбедной жизни животиной.
Но не все им давалось легко, особенно слабеющей здоровьем Аришеньке. Как ни берег ее Никифор, но от работы она не бегала, а сельский труд сплошь тяжелый.
Через четыре года после Игнаши родилась Даша – крепенькая и добрая здоровьем. Но ослабевшей маме, избитой многими мучительными, хотя и неудачными, родами, чудо это далось тяжело, и здоровья ей не хватило. Своей любовью цеплялась она за жизнь еще целую ночь и целый день. Но силы иссякли, и она затихла: лежала уже молча, не двигалась, а только улыбалась глазами, когда Никифор подносил к ней новорожденную малютку. А к вечеру Аришеньки не стало.
Такой разлучной беды Никифор пережить не мог. Он так поник духом, что оставил церковную службу и забросил хозяйство.
И тут, неожиданно для самих себя, вереницею к его двору поплелись калеки, неприкаянные одинокие старухи, многодетные вдовы со своими выводками, да и простые крепкие мужики. Приходили, молча правили хозяйство, кололи дрова, готовили пищу, кормили, ухаживали и убаюкивали. Те самые несчастливцы, которых он опекал и успокаивал все эти годы.
Иные, не в силах помочь, приходили, чтоб просто посидеть рядом с разбитым горем вдовцом, помолчать, тихо и бессловесно поплакать о своем и, дружески похлопав на прощанье по плечу, уйти восвояси.
Месяца через полтора после похорон Никифор неожиданно переменился, вышел в люди - светлый, мирный и преисполненный необъяснимой твердости, будто ему открылась великая истина, непостижимая и могучая.
Он продолжил свой путь теперь уж один, отдаваясь без остатка своему доброделанию, церковному служению, молитве и детишкам.
– Теперь, – говорил он. – Мне тем более все силы полагать к Царствию Небесному. Уж меня и ждут там.
Так прожили они еще с год. Возросший до самостоятельности Федор во всем подражал и помогал отцу, и младших детишек его, своего брата и сестрицу, опекал с великой заботливостью. Что в хозяйстве одному вполне сподручно, делал сам, оставляя отцу больше времени для молитвы, ибо тот ежедневно служил в церкви часы.
– Больше нужно добрых дел, – сетовал иногда Никифор. – Все дела выходят от избытка, и нету в них лепты. А что еще раздать, чтоб не навредить детям, не знаю. Вот и нечем помочь, кроме доброго слова, если кому потребно есть утешение. Да и кроме молитвы, уж она-то всякому в пользу.