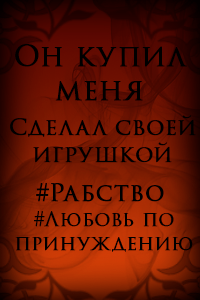Духовная пища
Духовная пища
Так как-то вышло, что с искусством у меня не было ничего никогда, я, там, знаю, например, что есть «Всадница», но только потому, что поза такая в сексе тоже есть. Знаю еще «Девочку с персиками», ну и немножко другого, что в учебнике было, но, в основном, всякое, что можно пошло как-то домыслить, это я знаю. Вот еще «Черный квадрат», это ж тоже искусство, мужик нарисовал такую хуевину, понимаешь, а гляди ж ты.
Да, короче, что там нарисовали за нашу длинную, невероятную долгую историю — этого я не знал никогда, и меня оно не особо ебало. Есть вообще-то проблемы насущнее. Ну, да, вот деньги зарабатывать, например, это надо.
И, короче, думал я, что никогда с искусством не столкнусь. Вернее, я даже не так думал, я вообще о нем не думал — вот как я о нем думал — никак.
Лапуля говорила, что упадочный я и всякое такое. Но я думаю неважно про девок с персиками и наездниц, да? Важно же видеть красоту в нем самом, в мире этом. В такое искусство я мог, а Лапуля — неа.
Ну да, короче, а потом ей подружайка какая-то, такая же умница-разумница, с Австрии привезла такую штуку, типа свернутую трубочку, как плакат. Девка та, она на конференции какой-то была, и вот, наверное, буквально первое, что на глаза попалось, купила и привезла. Я так думал, во всяком случае.
Короче, Лапуля сидела с красивым пакетиком, он закрывал ее весьма выдающийся уже живот. Она казалась небеременной и как бы не моей. Я все вертелся вокруг нее, а потом спросил:
— Почему не смотришь? Чего там?
— А какой в этом смысл? — спросила меня Лапуля.
Я тогда башку свою почесал и взял у нее пакет. Думал, там пожрать что-нибудь будет. Конфеты, вот, какие-нибудь или, знаете, у них там фиалки есть засахаренные, это отпад.
А там была такая белая трубочка перехваченная резинкой, я разозлился даже.
— Это что за говно?
Лапуля сказала:
— Вероятнее всего, это плакат.
И так я на эту бабу обиделся, что она плакат привезла, вот это ж надо, а как же дружба-подружба, ну, хоть бы тогда, не знаю, ежедневник бы какой-нибудь, не?
— Во жлобень она у тебя.
Я развернул, короче, плакат, ну да, это он был, а там еще ебальники такие страшные и много-много. И я поразился.
Знаете?
Сначала я подумал, что, ну, мужик рисовать не умеет, но нравится ему это, пусть ебется тогда. Тем более и умер он уже.
А потом я просек: мужик взял кусочек мира, вот так вот в ладонях, как воду, и сюда его выплеснул. Ну, не сюда, но вы же поняли.
Поняли точно, это нельзя не понять.
Там было много-много людей, они жили своей маленькой жизнью: глазели, бегали, ехали, дрались, тащили мешки тяжелые, плакали и все куда-то спешили. Происходило что-то невероятно важное, оно все было объято ярким красным и насыщенным зеленым, эти цвета куснули меня, зацепились, а все остальное проходило как-то сквозь них.
Куда люди-то спешили? Они несли мешки и посохи, погоняли лошадей, на мужиках были смешные шапки, на бабах грязновато-белые передники. Мне так показалось, что я туда шагнул, в этот странный мир людей с уродливыми ебальцами, у которых были такие важные дела. А там, вдалеке, я видел контуры очень странных зданий, тающие в голубой дымке, и мне казалось, что если прищурить глаза, я увижу их четче, но они оставались такими туманными. Вот, а надо всем этим на горе стояла мельница и крутила крыльями своими, казалось, замерла на одну минуточку, а сейчас будет опять наяривать, и будет ветер, и будет жизнь, и будет еще что-то, но я этому имени не знал и знать не мог.
И я подумал: картина, наверное, про мельницу, про то, как она своими крыльями крутит надо всем миром, про ее свободу и нашу несвободу.
Я рассматривал смешных человечков со странными, почти мультяшными лицами, склонял голову то на один бок, то на другой, чтобы лучше все запомнить и понять.
Я спросил Лапулю:
— Это чего?
— «Несение Креста» Питер Брейгель, — ответила мне Лапуля. Она наблюдала за мной с таким интересом зоолога, работника зоопарка.
— А. А где Иисус?
Лапуля с присущей ей мягкостью взяла у меня плакат и ткнула пальцем в то особое его место, где был Иисус. Совсем незаметный Иисус с большим крестом. Ему было больно, и люди вокруг него были такие злые и бесчувственные. Я расстроился.
— Ну ладно, — сказал я. — Хуй с ней.
В общем, уже мы и поели, и поеблись и спать легли, и тут мысли мои вернулись, я прошелся по комнате, всей в легком сиянии от лунного света, я нашел свернутый в трубочку плакат, и я его развернул.
В белесом и честном сверкании полнолуния лица казались стремнее, очертания тревожнее. Я полночи пропялился на картину, водил пальцами по контурам холмов и думал, чего же я не понимаю.
Я же чего-то не понимал.
Или отчего я так жил, как все они?
Думал сначала у Лапули спросить, но ей было похуй на жизнь, она мне могла только факты сказать, а мне факты не были нужны. Хуй с ними, с фактами, в чем смысл всего этого?
Вот, короче, я Лапуле сказал:
— Я твой подарок Нерону покажу, а? Он все это знает там, про церковь, религию. Ему будет интересно.
Лапуля, наверное, в этом сомневалась, но милостиво разрешила забрать плакат, даже подарила мне его.
И я его свернул во много раз, положил в нагрудный карман и таскался с ним недели две, все забывал показать.
Вот, а тут мы как-то зависали в стриптиз-клубе, и, в общем, я такой раздерганный был, мне было больно, сам не знаю, отчего.
Вроде девки все в неоне, с блестящими от пота сиськами, трусики прозрачные, выбритые лобки.
А вроде все равно больно.
Короче, я запарился. Вот, а под столом Нерона какая-то соска тщетно пыталась устроить ему минет, но Марк так наширялся, что все не выходило.
Я закрыл глаза, передо мной летали в полной темноте такие красные точки, красные и зеленые, и я нащупал во внутреннем кармане пиджака свой сложенный плакат.
Я открыл глаза, мне плеснуло в рожу всем этим цветом и светом, как водой холодной, я сказал:
— Ну, хуй с ним уже, пошли в сортир.
— О, — сказал Нерон. — Идея здравая, сейчас заполируем это дело кокосом, надо взбодриться.
Вот, короче, отпустил он бабу челюсть разминать, и мы пошли в сортир с ним, и он думал, что я достану кокос, а я достал этот плакат ебаный.
В сортире было светло и жарко, пахло мочой, пол под ногами был липкий, бешено блестели зеркала. Мужик какой-то отливал, прислонившись головой к холодному кафелю.
Хорошо мужику, а у меня голова болела.
— У меня проблема есть, Нерон, — сказал я.
Он, такой спокойный и всегда улыбчивый, посмотрел на меня. Его зрачки были равны точечкам.
— Ну? — спросил меня Марк Нерон, и сам же добавил:
— Баранки гну.
И сам же засмеялся. Сверхчеловек.
Я, короче, пожал плечами, развернул плакат (крестом прошлись по нему белые полосы — следы и раны от того, как я его сложил).
Нерон смотрел на меня, не сказать, чтобы непонимающе, скорее так вот, с любопытством.
— Вот, — сказал я, ткнув пальцем в центр плаката. — Вот моя проблема.
— Чего?
И сам же себе Нерон ответил:
— Того.
Я пальцем у виска покрутил и чуть плакат не уронил, и так испугался, как за святыню какую. Не хотелось, чтобы он до грязного докоснулся.
— Так что тебя парит? — спросил Нерон. Он неторопливо закурил, провел рукой по бледному лбу, собрав пот.
— Картина, — сказал я. — Мне от нее странно.
— Такова сила искусства, — ответил мне Нерон. — Это вообще что?
Но прежде, чем я ответил, Нерон подался к плакату, я испугался, что он прижжет его сигаретой, но Марк вовремя отвел ее в сторону.
— Еба-а-ать, — сказал он с таким оттягом. — Это же Питер Брейгель. Старший.
Из кармана у Нерона торчал пистолет, пустая кобура казалась каким-то хитрым приспособлением для крошечной конячки. Как этот пистолет оказался у него в кармане я понятия не имею. Я просто подумал тогда о смерти, которая каждого из нас ждет.
— «Путь на Голгофу», — сказал Нерон, взглянув на меня как-то хитро и странно, как лисица.
— Хуя ты умный.
— Нихуя.
Нерон водил пальцем по картине, словно гадалка по чьей-то ладони, по линии жизни. Я хотел, чтобы он сказал мне, что меня беспокоит. У него ведь на все был готов ответ. Я думаю, с самого детства. Есть же такие маленькие всезнайки, они бывают.
Под ярким светом в сортире я вдруг обнаружил каких-то не то птиц, не то мошек, летавших вокруг мельницы. А, может, то от героина было, я не знаю.
Нерон посмотрел на меня, значит, и вдруг спросил:
— Любишь убивать, Автоматчик?
— Люблю убивать, — сказал я. — Это весело, ну, и прикольно.
Тут мне вспомнилось, как нож входит в человеческое тело сразу и до конца, что за ощущение такое. И я сказал:
— Не всегда, но чаще всего — это прикольно. А что?
Я обернулся глянуть на мужика, но он был не але. Он отъехал чуть-чуть, по ходу заснул. Я взял у Нерона сигарету, затянулся и выдохнул дым на плакат, распятый нашими пальцами. Все покрылось пеленой густого тумана. Маленький мир, как в шарике со снегом, да?
— Я знаю, что тебя беспокоит, — сказал Нерон.
— Ну?
Мне тоже не терпелось узнать.
— Здесь есть мы, Васек.
— А?
Палец Нерона с безупречно аккуратным ногтем уткнулся в плакат, он поскреб его.
— Глянь-ка сюда.
— Ну, мужики на повозке едут.
— Это, думаешь, кто?
— Хуй знает, кто.
— Это разбойники, между которых будет распят Христос, — сказал Нерон таким тоном, словно он лекции в универчике читал, а не героином торговал.
— Это мы с тобой, — повторил он.
— Это потому, что один рыжий, типа ты, а другой черный, типа я? Ну и ебала у них. У меня не такое ебало. Ты как хочешь, а у меня хорошее ебало.
Нерон помолчал, он чего-то ждал, может, знака какого-то свыше, но не дождался ничего.
— Видишь, черноволосый, это ты, вскинул голову и кается. А рыжему похуй. Рыжий — это я.
И я подумал, странное дело, но, кажется, меня волновало именно это. Хотя я ничего такого не знал про этих мужиков с повозки. Вот так вот, ткнув пальцем в небо, Марк Нерон попал мне в мозг. И я увидел, он тоже расстроился. И я спросил:
— Ты чего?
— Я не думаю, — сказал мне Марк Нерон в сортире стриптиз-клуба. — Что второй разбойник на самом деле не хотел раскаяться.
На запястье Нерона блеснули такие золотые, такие яркие часы, когда он снова приложил руку ко лбу, плакат соскользнул вниз, но я успел его поймать.
— Ну, не знаю, а что ж не раскаялся?
Нерон помолчал, он впервые на моей памяти с трудом подбирал слова, глянул вниз, обнаружил незастегнутую ширинку.
— Бля, — сказал он.
А потом Марк Нерон наклонился ко мне так, словно хотел сообщить какой-то большой секрет. Будто мы с ним были как минимум лет на двадцать моложе.
— Я, если честно, верю, что он меня все-таки накажет. Понимаешь? Что я смогу до него достучаться. Иначе это что ж такое? До всех на свете я могу, а до Бога Господа, сука, нет. Накажет-накажет. Что мне, даже наказывать себя самому? Ну нет уж, хуй.
Вот это Марк Нерон был грандиозная личность. Ну никак до него не доходило, что Бог не спустится к нему лично и не скажет:
— Марк, отъебись ты уже от меня.
Не доходило и все. Рыжий разбойник был гордый, как дьявол. Теперь мне это и на картине было видно.
А я? А я порадовался, что я другой разбойник и посмотрел на белый потолок в ярких лампочках.
Плакат я Марку подарил, хоть он и говорил, что ему не надо.
Отредактировано: 18.05.2019