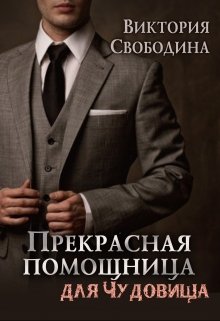Душа
Душа
- Ну что, и в этот год ничья?
- Ша, ещё цельный день есть! Уж в этот-то раз я тебя обгоню!
- Неугомонный… Ладно, есть у меня одна душа на примете…
Мама привела Мишу на станцию, усадила на скамейку и пошла за билетами. Он честно прождал два часа пока не подошёл дежуривший полицмейстер. Миша умолял разрешить ему остаться, а то как же – мама вернётся, а сына не окажется на месте, как же она перепугается! – но полицмейстер, усатый и важный, был непреклонен. Схватил мальчонку за ворот – и поволок к выходу, бормоча ругательства сквозь зубы. После того, как его выпроводили наружу, Миша ещё какое-то время крутился у входа, заглядывая в окна и пытаясь увидеть маму, пока него не прогнали промышлявшие у станции беспризорники.
Уже тогда за ним пристально наблюдали.
Убежав, Миша сел у резных дверей подъезда жилого дома и плакал до тех пор, пока наружу не вышел швейцар – такой же усатый и не менее важный, да так шуганул, что лопатки мальчика болели до самого дома.
Они с матерью делили угол в подвальной ночлежке, среди фабричных рабочих из тех, что свободное от пьяного беспамятства и батрачения время проводят за картами, вином и водкой. Запахи перегара и табачного дыма Миша впитал с младенчества. Рождение мальчика было встречено с радостью: грудные дети в ночлежке ценились, ибо просящим милостыню с мяукающим кульком в руках дают больше. Миша, в отличие от большинства рождённых в подвалах, не умер в младенчестве. Мальчик даже пережил тот сложный период, когда он был уже слишком большой, чтобы походить на грудного, но чересчур мал, чтобы его можно было посылать «с ручкой» — то есть протягивать ладошку в ожидании, что прохожие положат в неё копейку. Мать его, не так давно разменявшая третий десяток, не работала, и перебивалась тем, что принимала дядь, каждый раз выставляя Мишу за ширму. Когда Мише исполнилось пять, его таки отправили просить на улицу – но в силу неопытности работал он неумело и, главное, скромно, а потому порой возвращался к всеобщей ненависти без единой монеты. В такие вечера его, как нахлебника, оставляли без еды.
В то утро мама, где-то отсутствовавшая всю ночь, перед рассветом привела нового дядю – в отличие от остальных, такого всего солидного, с тростью и в пальто на красной подкладке. Дядя подождал, пока мама пинками не разбудит Мишу, спящего на матрасе на полу, и вытолкает сына взашей, после чего уединился с ней за ширмой. Короткое время слышалась возня, а потом мама выскочила, ещё бледнее, чем обычно, и, не говоря ни слова, потащила сына на улицу. По пути она не проронила ни слова и лишь постоянно заходилась в кашле, а Миша, с рождения приручившийся быть как можно менее заметным, покорно молчал. Пока они шли к станции, потихоньку начал падать снег.
Вернувшись к ночлежке, Миша, к своему удивлению, заметил у дома небольшую толпу. Подойдя поближе, он увидел, как полицмейстеры по одному выводят «постояльцев» и засовывают их в экипажи. Прирученный бояться полиции пуще огня, мальчик развернулся и побежал, поскальзываясь на снегу, куда глаза глядят. Когда мальчик уже не мог передвигать ноги от усталости, то понял, что, во-первых, не знает, где и находится, и, во-вторых, понятия не имеет, куда дальше идти. Собрав волю в маленький кулачок, он пошёл делать то единственное, чему был обучен. Через час, набрав таки пару монет, он зашёл в первую попавшуюся булочную. Как на него замахали и закричали! Испугавшись, он разбросал все деньги на пол и выскочил на улицу, но не убежал, а остался стоять у витрины, пожирая глазами буханки и булки. Покупательница, вышедшая следом, оглядела Мишу с ног до головы, сунула руку в бумажный пакет, на ощупь выбрала крендель поменьше и на ходу сунула его в красные пальцы мальчика. Схватив угощение, Миша убежал за подворотню, на чужой двор, спрятался за дровами и одним махом умял крендель. Тем и ограничился его обед.
Миша и сам не заметил, как те двое возникли перед ним: такие же маленькие мальчишки, как и он сам, судя по обноскам – тоже сироты при живых, обитающих на дне родителях, с лицами, как две капли похожими друг на друга, у одного были золотистые кудри, а у второго — черными, как смоль.
— Чего сидишь тут?
— Где твоя мать?
Миша недоверчиво посмотрел на парочку исподлобья, но, к своему удивлению, всё-всё им рассказал.
— Ну и какая она после этого мать! – брюнет плюхнулся снег слева от Миши.
— Не вини её, — блондин присел справа.
— Не вини-и-ить, ага – передразнил брюнет. – В кошельке-то, небось, ассигнаций и на второй билетик хватало!
— Она уже жалеет о содеянном.
— Конечно, жалеет. Что-что, а жалеть все умеют. Хорошо получается. Ночью поблудила, утром пожалела.
— Не сама на порочный путь встала. Юна была, слаба, столкнули.
— А что же не сойдёт?
Миша поначалу слушал перебранку, но потом перестал, ибо всё равно ничего не понимал. К тому же крендель опустился в живот и пропал, будто не было его.
— Кушать хочется, — тихо сказал он.
Спорщики прервались и посмотрели сначала друг на друга, потом на Мишу.
— Пойдём! – брюнет схватил Мишу за руку и потащил за собой.
Он и моргнуть не успел, как обнаружил, что его привели обратно, к тому же магазину. Вот только теперь, как было видно сквозь витрину, продавщицы куда-то ушли, не дождавшись конца дня.
— Дверь закрыть забыли, — прошептал на ухо брюнет.
— Не надо, — блондин положил Мише руку на плечо и посмотрел ему в глаза. – Другие есть пути всегда. На надо.
— Ну, когда ещё такой шанс, раз-раз, и всё, — нетерпеливо дёргал за другую руку брюнет.
Миша перевёл взгляд с глаз блондина, полных печали, на лицо брюнета, горящее азартом, потом вновь посмотрел на манящие хлеба за стеклом. Живот жалобно заурчал.
Рванув с места, мальчик перебежал улицу, шмыгнул за дверь, схватил первую попавшуюся буханку, прижал к себе, как сокровище, и пулей выскочил за дверь, на дорогу.
Мало того, что кучер Савелич был тяжёл после вчерашнего, так ещё и молодой барин, хвостом его по голове, приказал втопить – опаздывает, видите ли, на карточную партию. Быстрее ему всё, быстрее. Ну, Савелич и подстегнул лошадок. Кони молодые, резвые, как на подбор, разогнались, русской душе в радость. А тут выскакивают всякие, как умалишённые. Куда ж там лошадкам успеть стормозить?
Савелич остановил коней и, не обращая внимания на брань барина, спрыгнул с кареты и на негнущихся ногах подошёл к лежащему на мостовой тельцу. Снял шапку.
Двое мальчишек стояли в отдалении.
— Твоя работа? — буркнул брюнет.
Блондин поднял глаза к небу:
— На всё воля…
— Да-а-а, знаю, старая песнь, завянь, — отмахнулся брюнет. Он достал из-за пазухи маленькую трубку грубой работы и, укрывая огонёк спички от ветра, закурил.
— А всё-таки, — усмехнулся он. – Моя взяла.
— Не соглашусь. Вот увидишь, спишут на малолетство и обстоятельства, — блондин пожал плечами и улыбнулся. – И через век-другой очко засчитается в мою пользу.
#10281 в Мистика/Ужасы
#4783 в Паранормальное
#40494 в Разное
#10732 в Драма
Отредактировано: 27.01.2017