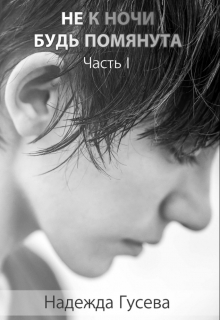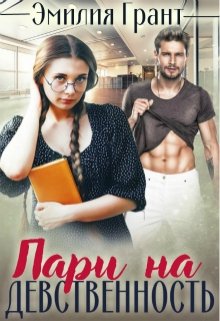Двойка
Двойка
„Всё уже закончилось. Но покоя нет, и я решил записать, что помню.
Моё первое воспоминание было замечательным — тепло, мягко, мамочка рядом, она зовёт меня по имени. Райма. Её тоже звали Райма, поэтому она часто звала меня Райма-два или Двоечка, Двойка. Она любила меня. Она была красивой — тонкие руки, стройные ножки. Её лицо я видел реже, только если мы оказывались перед зеркалом. У мамы были прямые каштановые волосы и карие глаза, как у меня.
Работала мама в НИИ, для меня это долго звучало, как сочетание звуков или имя собственное, пока она не объяснила. Каждое утро она вставала, одевалась, сетуя, что располнела, красилась и долго собиралась. Она постоянно говорила со мной, а я в ответ мог лишь молчать. Однажды она подарила мне замечательную вещь, часть которой, оказывается, уже давно была во мне, и я смог начать говорить. Синтезатор речи. Это было непросто, в нём было всего несколько контактов, а каждый звук кодировался сочетанием двух. На экране перед моим носом они записывались как единицы и нолики. Нужно было сначала записать их, а потом включить озвучку всей серии. Занимательная и сложная игрушка.
Мама часто играла со мной в НИИ — перед экранами со множеством единиц и ноликов, записывавшихся особым языком. Иногда подключала к машинам, и я писал. Это было сложно, иногда скучно, но мама не отставала.
Я всегда был рядом с ней. Засыпал и просыпался, чувствуя подбородком её сложенные ладони. Слушал её бесконечные разговоры, смотрел, как она красит лицо, готовит, прибирается в нашей квартире, стараясь особо не нагибаться. Со временем мама начала носить ортопедический корсет, а лекарства пила, сколько я себя помню.
Иногда я видел в НИИ таких же, как мы с мамой. Например, мамина подружка Ришка со своей Двойкой. Ришка-два была печальной и говорила мало, и я в детстве на неё обижался. И так поговорить не с кем.
Я не сразу заметил, что люди нас избегают. В НИИ ещё куда не шло, а на улице могли и послать. Шарахались от нас. Я спрашивал маму, почему, но она молчала. Однажды мы встретили женщину с Двойкой, полностью скрытой под свитером и я долго удивлялся, ей же ничего не видно. Мама сказала, она ещё слишком маленькая и поэтому полностью внутри.
Со временем я неплохо освоил речь и язык циферок и стал помогать маме. Мы писали волшебные заклинания, как в сказке. Тот, кто прочтёт их, сможет управлять большими машинами. Не такими, конечно, как те, в которых мы едем по улице строителей Жецена на работу, теми управляли люди. Наши были сложнее. Для сказки всё это было, пожалуй, слишком рутинным, но маме нравилось называть нас магами. Она рассказывала на ходу придуманные сказки на ночь, где мы с ней — могучие волшебники, создатели заклинаний. Они пишут в толстых книгах… Однажды я видел книгу, её принесла Ришка. Книга была на каком-то неизвестном языке, и знаков было много, десятки. Двойка Ришки сказала, что язык тот же, но записано в другой системе. Это понятно — мы тоже писали в разных системах, но почему символы другие? Но она мне не ответила.
Однажды я видел на улице маленькую Двоечку, идущую рядом с мамой, и очень разволновался. Она была совсем маленькой, чуть выше колена, и у неё было тельце, и ручки, и ножки, и волосы, и она умела говорить. Она даже была одета и — страшно подумать! — могла на этих маленьких ножках уйти от мамы. Наверное, поэтому её мамочка крепко держала её за ручку. Я спросил Райму, когда я вырасту, и она сказала, что попозже, а Двоечка обернулась и сказала:
— Смотри, мама, у тёти голова в животе!
— Пойдём, не смотри на неё, — и потащила ребёнка прочь.
Я не понимал, почему они так реагируют — разве не все люди были Двойками в детстве? Но эта мысль занимала меня недолго. Теперь я знал, какой буду. Разве это не замечательно? Можно отойти от мамы на шаг, а то и на два. А то и в другую комнату. Мне было немного стыдно — ведь мама так меня любит, как же она без меня? Чем чаще я спрашивал, когда вырасту, тем чаще она говорила, как ей одиноко, как она меня любит и хочет, чтобы я осталась с ней навсегда. Я обещал, что останусь, просто хочу такие же ножки и уметь ходить.
Мне начало казаться, что мама специально меня не отпускает. Потом она начала плакать, когда я просил её „пустить меня погулять, ненадолго!”, и это меня пугало и сбивало с толку. Я начинал извиняться и обещать, что никогда её не брошу.
А может, она и не могла. У маленькой Двоечки было маленькое тельце, а у меня только голова. Я чувствовал её, своё лицо, шею, язык, но не более. Глядя на мамину фигуру в зеркале я понимал, что маленькому тельцу негде было уместиться, даже если бы я его просто не чувствовал. Может, оно просто ещё не выросло? Надо подождать.
Зато мы начали общаться с Двойкой Ришки Рекевко. К моему удивлению, она заговорила не словами, а звуками, „т” — один, „и” — ноль. Ришка сказала только „Опять секретничаешь!” и больше не обращала внимания. Наверное, Двойки часто общаются так, хотя не очень понятно, почему…
„Что, Райма-двойка, ждёшь, пока вырастешь?” Теперь понятно. Она не хочет, чтобы мамы нас понимали. Может, Ришку подобные разговоры расстраивают не меньше, чем мою маму.
„Да, — ответил я тем же способом, — видела недавно Двоечку, которая шла отдельно. Почему мама плачет, когда я с ней об том говорю?”
„Я могу ответить, но тебя это очень расстроит. Да и торопиться некуда. Ты умеешь подключаться к другим машинам по сети?”
„Нет”.
„Это совсем не сложно. Я могу объяснить. Только Райме не говори”.
„Почему?”
„Она очень расстроится. И нам нельзя подключаться. Но ты можешь, если никто не узнает. Ты даже можешь подключиться к огромной сети, наверняка ты уже находил её, но она запаролена. Взломаешь — узнаешь много интересного, только продолжай параллельно писать программы и скрой всё с экрана…”
— Всё, девочки, пора работать. Потом поболтаете. Пока, Райма! — и Ришка ушла.
Двойка Ришки привела меня в замешательство. Подключаться действительно было нельзя, и запускать „Сеть” тоже. Может, не стоит? Сказать всё маме? Но, как и следовало догадаться, победило любопытство. Я действовал осторожно, и сумел запустить сеть по-тихому.
На её исследование ушло некоторое время. Сеть была огромна! Через поиск можно было получить доступ к машинам, которые стояли далеко, неизвестно где, и к их информации. Связался я и с Двойкой Ришки. Та советовала не торопиться и не показывать внешне эмоций. Интригантка!
В Сети я прочёл, что Двойки — проект. Их тела ампутируются, а оставшиеся головы навсегда прикрепляются к телам носителей.
Я никогда не вырасту.
И конечно, я не смог удержать этого в себе. Когда мама узнала, что я подключался к Сети (про Ришку-два я не сказал), она испугалась. Сказала никому не рассказывать об этом. Потому что работодатели могут вырезать меня из неё и убить, или перестать выдавать лекарства, и тогда я сгнию прямо в ней. В молодости стать обладателем Двойки — обеспеченная карьера на всю жизнь… Мне показалось, что теперь она об этом решении жалеет.
Мама запретила мне выходить в Сеть, но тут мне помогла Двойка Ришки. Она каким-то образом добилась незаметного подключения кабеля и впредь велела мне не высовываться.
Я читал про физиологию людей и понял, что у меня должен был быть и отец. Двоек делают искусственным оплодотворением, но поискав хорошенько, отца я нашёл, как и свои медицинские записи. Эта информация была секретной и вряд ли мне удалось бы до неё добраться, если бы я не имел дело с „волшебными заклинаниями” всю свою жизнь.
Во-первых, я выяснил, что я мальчик. Был. Райма всегда звала меня доченькой. Во-вторых, мне двенадцать, и если бы я не был Двойкой, через пару-тройку лет теоретически мог бы иметь собственных детей. В-третьих… сейчас я бы мог быть почти такого же роста, что и мама.
Это было пустыми фактами первый день. Потом я начал жадно смотреть на людей вокруг. Я мог бы ходить. Мог бы говорить. Мог бы есть… Мог бы делать такую же сложную причёску, как женщина на переднем сиденье маршрутки… Хотя нет, если я мальчик, то стриг бы коротко, как все. Даже жаль. Всегда было немного завидно, когда мама расчёсывала свои длинные волосы, пропускала сквозь пальцы… Интересно, какие они на ощупь? Они были слишком короткими, чтобы достать до меня, только до плеч.
Если бы у меня были лёгкие, я мог бы сам говорить, или даже петь. Губы Двойкам зашивают — всё равно они не могут ни есть, ни пить, так зачем заносить микробов?
Я думал обо всём этом и совсем перестал разговаривать с Раймой, а она обижалась и плакала. Если она заставляла меня говорить, я не мог говорить ни о чём больше. Что такое „ноги затекли”? Какого вкуса шоколад? На что похож поцелуй? Какой бы у меня мог быть голос?
Маму это неизменно приводило в печальное состояние. Она много жаловалась и говорила, что уже поздно что-либо менять. Она обречена прожить остаток жизни старой девой, одна со мной в нашей квартире. Однажды я спросил её, сколько бы у неё могло быть детей, если бы она их рожала, и она попросила больше не говорить на эту тему.
Я и не подозревал, насколько вывел её из равновесия. Рыдать по ночам стало её привычным делом… Лишь позже я догадался, что дело не только во мне, но и в нашем коллеге Велко Лавокельско.
Высокий, голубоглазый и черноволосый Велко, который улыбался Райме, будто не подозревая, как на неё это действует. Обычно люди от нас шарахались, но в данном случае надежда на понимание совсем изводила Райму. С Велко всё могло бы и получиться, если бы…
Если бы не я.
В конце концов она заговорила со мной о нём. Как я должен был реагировать? Не знаю. Если бы я вырос, мог бы стать похожим на него, кто знает. Мужчины никогда не оказывались ко мне близко. И мне было жаль маму.
С одной стороны, она очень переживала, с другой — очень ко мне привыкла. Душ по утрам, постоянные разговоры в течении всех этих лет… Меня она стеснялась куда меньше, чем Лавокельско.
Первый поцелуй получился похож на примерку одежды, когда мама достаёт гору одежды из шкафа и прижимает к себе. Хорошо хоть, мне не надо дышать, но когда нос расплющивают, приятного мало. Не знаю, о чём думал Велко, может, я его забавлял… Со мной он говорил, как с ребёнком, и, хоть он и старался мне понравиться, это тоже было неприятно. Зато он поцеловал меня в щеку, и это было интересно, ведь раньше этого никто не делал.
Ещё он водил её в кино, где мне ничего не было видно. Темно, спинка кресла прямо перед носом, Велко украдкой целует маму и поглаживает пальцами по моей щеке. Пожалуй, это даже было приятно. На прощанье он лизнул меня в нос, не знаю, зачем.
Как он остался у мамы на ночь я, пожалуй, описывать не буду… Но им было хорошо, а меня разбирала зависть. Если бы у меня было тело, я бы тоже мог, крякнув, поднять маму на руки и заставить так вздыхать — что я, виноват, что ли, что никогда не мог так её расшевелить? Я просто глупая голова… И никогда не пойму, что же такого они чувствуют. Мне было просто жарко и неудобно.
Маму, впрочем, всё устраивало, как никогда. Она смеялась и брызгалась водой в душе, напевала, готовя кофе обворожительно улыбающемуся Велко. В том же игривом настроении она рассказывала о приключении Ришке, а я опять молча завидовал. Почему ей так хорошо, когда я никогда не смогу ходить? Она так говорила, будто с ней произошло что-то волшебное и потрясающее, а я этого никогда не пойму, как слепой от рождения — солнечного света. Это просто несправедливо. Что самое обидное, она совершенно не замечала моего настроения.
Когда я намекнул ей, что лично мне общение с Велко ничего не даёт, она смутилась, но слабее, чем мне бы хотелось. Из её речи я понял, что она слишком долго была одна, а мне помочь всё равно не может, так зачем страдать?
„А если я перестану работать?”
— Тогда хозяева тебя вырежут.
Одна мысль, что меня убьют, а мама с Велко счастливо будут жить дальше, просто убивала. Райма, наверно, не понимала, как жестоко то, что она сказала для существа вроде меня. Они искалечили меня, превратили в голову, а теперь могут выбросить, как использованную вещь… Я боялся, что мама решит абортировать меня просто потому, что я мешаю. Такие вещи она не могла решать сама, но если бы я отказался работать, ей бы наверняка разрешили.
Если уж умирать, так вместе.
Умирать. Я долго слушал эту мысль, привыкал к ней, рассматривал. Умереть. Я ведь, по человеческим меркам, ещё так молод. Могу прожить ещё лет тридцать, а то и больше. Сколько мамин организм выдержит.
Я представлял себе эту жизнь. Очевидно, мама вцепится в Велко мёртвой хваткой. Даже если он её бросит, теперь ей будет куда легче решиться начать отношения с кем-то ещё. На худой конец, с другой мамочкой Двойки, они отчаянно одинокие люди.
Нашла способ быть счастливой. А я всегда буду недовольным, мешающим комком, от которого она будет отмахиваться, чтобы не портить себе настроение. Но разве это я виноват, что она согласилась быть носителем Двойки?
Прожить ещё двадцать-тридцать лет вот так. Вот так!
Велко видел моё хмурое лицо и говорил, что если бы мой рот открывался, он бы сумел поднять мне настроение. Но я ему всё равно нравился, он любил целовать меня и гладить пальцами. Говорил, что я красивая. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что я был мальчиком когда-то?
Может, это уже неважно. Откуда мне знать, что это такое — быть мальчиком? Велко не был мне противен, во всяком случае. Пожалуй, он неплохой парень и ни в чём не виноват, но я всё равно завидовал его длинным пальцам, и ногам, и телу, и волосам, и возможности иметь детей. Он был человеком, а кем был я?
Я спросил Двойку Ришки и выяснил, что она в этой депрессии уже давно, но покончить с собой не так-то просто. „Найдёшь способ — включи меня тоже”. И я искал, и иногда казалось, что это безнадёжно. Кроме того, мне не хотелось умирать без своего имени. Не хочу быть тенью Раймы… Двойка Ришки просила называть её Има. Она была девочкой когда-то.
В конце концов я понял, как всё устроить — взломать системы лифта. Но и после того, как всё программы были обдуманы и написаны, я ждал несколько недель, пока меня не осенило назваться именем отца — Велетнау.
В назначенный день, когда Ришка и Райма ехали в лифте, я запустил программы. Если бы у меня было тело, меня бы, наверно, трясло, как Райму, когда Велко снимал одежду, но я чувствовал только горечь. Когда погас свет, мне было безумно жаль всех вещей, которые я не успею — но я и так не смог бы их сделать. Жалость к маме смешалась с желанием её убить в нечто почти спокойное. Справедливость. Разве это не справедливо?
„Има Рекевко”. Я предупредил её ещё вчера, это просто прощание.
„Велетнау Шлевко. Спасибо”.
— Что? — мама.
— Мы сейчас упадём! — Ришка.
Потом лифт полетел вниз и грохнулся.
Очнулся я в больнице. Не получилось. Не получилось!
Потом я понял, что вернулось всё всё же не на круги своя. Райма сломала шею и не могла больше двигаться, совсем. Только глазами. К ней подсоединили такой же синтезатор речи, как и у меня. Наверно, это ужасно, но я был безумно рад. Рад, что она почувствует, как это, когда не можешь шевельнуть и пальцем. Разве это не справедливо, а, носитель Двойки? Что скажешь?
Конечно, я её не спросил. Радость моя была недолгой — на Райму надели экзоскелет, а чувствительность она и не теряла. Управлять механическим движителем маме было сложно, так что ей дали отпуск и в компании Велко отправили домой. Когда я смог совладать с эмоциями, то начал снова говорить с мамой, и она мне поверила. В конце концов, мы чуть не погибли! Надо держаться вместе. Я даже вызвался на первых порах помочь ей с экзоскелетом.
Она отдала мне контроль за ногами, и я быстро взломал систему. Надо было видеть её лицо, когда её руки, будто сами по себе, отсоединили её синтезатор речи! Впрочем, я его не видел, да и эмоций на лице Раймы больше не отражалось. Потом я подсоединил её синтезатор к своему.
Наконец-то я был свободен.
Вышел бродить по городу. Батарей хватало не надолго, ну да ладно. Теперь я мог бы покончить с собой просто и в любой момент. Има и Ришка разбились насмерть, и я был рад за подругу. Мне тоже ни к чему задерживаться.
Мимо прошла мамочка с Двойкой. Они смеялись, будто не замечая круга пустоты, создаваемого прохожими. Маленькая счастливая Двойка… Вспомнил Иму, которая благодарила меня за то, что я её убил. И тяжесть опять опустилась, сжала со всех сторон. В Народной Республике несколько сотен Двоек, и их будут делать ещё. Я уйду, а они останутся. Я развернул тело Раймы, чтобы видеть уходящую парочку.
— О, я думал, ты дома сидишь! — Велко.
„Кажется, я немного освоила эту штуку”, — отвечаю я через синтезатор Раймы.
Велко устроился рядом и вцепился в тело Раймы, я не видел, что он делает. Обнимает, наверно.
„Велко, врачи говорят, что мне не стоит продолжать общение. Можем повредить организм”.
— Он ведь и так повреждён, хуже не будет.
„Но может быть лучше. Если его не дёргать, через несколько лет возможно частичное восстановление, — вру я. — Я тебя очень люблю, но хочу опять ходить самостоятельно”.
Он долго молчит и смотрит, наверное, в лицо Раймы. Я вижу только пиджак из плотной коричневой ткани.
— Ты уверена?
„Смеешься?”
Вздох.
— Мне очень жаль. — Наклоняется ко мне. — Ну что, Раймочка, будем прощаться? — проводит пальцем по щеке и встаёт.
„Поцелуй меня”, — говорю в свой синтезатор, и Велко возвращается и целует, а потом уходит, не оборачиваясь. Пожалуй, мне немного грустно. Я провожу пальцами Раймы по щеке.
С тех пор, как я понял, что делать, я провёл не одну неделю в приготовлениях. В перерывах бродил по городу, один раз даже нашёл своего отца и видел его вживую. Я не подошёл… Это было и не нужно. Обычный человечек в мешковатом сером пиджаке. Растрёпанные волосы, квадратные очки. Он не знал, что стал донором для Двойки, наверное, пришёл бы в ужас.
Через границу я перебрался с помпой! В украденном танке и с максимальной путаницей вокруг, какую только смог устроить, взламывая программы. В Сети про заграницы было написано много плохого, но я надеялся, что они не похожи на нас, если мы с ними не дружим.
Глаза пограничников, когда они заметили меня, надо было видеть! Стоило мне ради эксперимента вернуть контроль над синтезатором речи Райме, как та начала требовать вернуть её назад, и я без сожаления её оборвал. Когда она поняла, что нужные лекарства есть и здесь, то успокоилась. К моему удовольствию, людей существование Двоек шокировало, и в конце концов они ввели войска и прекратили эту практику.
Вот и всё. Счастливый конец. Не знаю, что теперь будут делать оставшиеся Двойки, но по крайней мере, их не будет становиться больше. Я свою миссию закончил.
Осталось лишь одно. Для меня ничего не изменилось. Райма… Она просто слабый человечек, который ошибся в юности, но я ничего не могу с собой поделать — мне её больше не жаль. И себя не жаль, и всех упущенных возможностей.
Я записал это всё как текст, который потом кто-нибудь прослушает с моего синтезатора речи, и уже подхожу к завершению. Контроль над экзоскелетом всё ещё у меня. Сейчас я собираюсь пойти на кухню, достать самый большой нож, какой найду и вырезать себя из Раймы. Она будет всё чувствовать, как и я. Справедливости! Я не отпущу мамочку жить счастливо. Хочу умереть у неё на руках, наконец-то родившись по-настоящему. Отдельным. Хочу, чтобы она умерла в луже нашей крови со мной на коленях.
Не знаю, что ещё к этому добавить. Мне печально и я почти счастлив. Моя история закончена. Это всё”.
Запись кончается, и двое людей оказываются в тяжёлой густой тишине. Сумерки. Мужчина крепче обнимает оплетённые экзоскелетом плечи и стирает тусклые мокрые дорожки с неподвижного лица женщины. Кладёт ладонь на переплетённые поверх забинтованного живота пальцы. Он так и не находит, что сказать, но Райме достаточно того, что Велко нашёл её в последний момент и не дал планам Велетнау воплотиться в точности. К счастью, тот был уже мёртв и не видел этого. Он бы расстроился.
#27876 в Фантастика
#2069 в Антиутопия
#1190 в Киберпанк
тоталитарное общество, эксперименты на людях, становление личности
Отредактировано: 08.12.2016