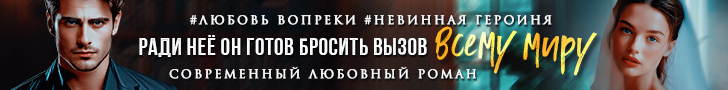Эх, жизнь!
Плен
Моему другу – поэту, художнику, врачу – Марине Мироновой, человеку, которому я читал эту повесть, ещё не написав ни строчки, – посвящаю этот труд.
Facta sunt potentiora verbis! лат. (Поступки сильнее слов).
«...Люди мне простят от равнодушия,
Я им - равнодушным - не прощу!»
Александр Галич
Охота, говорят, пуще неволи. Если охота пуще неволи, то рыбалка пуще охоты к охоте.
Думается, вот только-только я шел весь мокрый от росы по тропинке ведущей на пруд по гречишному полю, и на улице ещё ночь отходила в вечность, багровея, на востоке пятнами рассвета, а теперь уже считай полдень: солнце припекает, и тучи комаров-шакалов сменили волки одиночки – оводы.
...Заняться мне было нечем, рыба часов с десяти утра перестала клевать.
Домой я возвращался усталый, но счастливый – в моем садке было килограмм пять-семь вполне приличных карасей. Все-таки я нашел рыбное место, о котором мечтает каждый рыбак. Это был самый хвостик пруда, поросший ивняком, камышом, затянутый ряской и осокой. Именно там и обитала прудовая знать, «бояре и боярские дети» – крупные, дородные, жирные и неуклюжие. Правда, удить там было сущей мукой – мелко, чуть прозевал поклевку и пиши – пропало, карась заведет леску в камыши и непременно запутает, но игра стоила свеч, на чистой воде, где шныряют представители низкого сословия – рыбьи «пролетарии», таких жирных карасей и в помине нет.
Роса на траве уже давно высохла, и теплый летний ветер лениво гулял по пестрому лугу, приводя в движение цветное море разнотравья, гнал как на воде мелкую рябь, играя луговыми васильками и колокольчиками, путаясь в доннике и в густой фиолетовоокой вике, теребя гибкие стебли иван-чая и конского щавеля. На цветущем клевере и татарнике раскачивались мохнатые шмели, а синем небе, весело, зависая в воздухе, пели жаворонки. А у меня перед глазами все ещё стояли поплавки удочек, да мерещились карасиные поклевки. Ноги приятно гудели от усталости, и на душе было как-то необычно светло и радостно. Хотя некая тучка и омрачала мою радость, ведь дома я обещал быть часов в восемь, ну от силы, в девять, а теперь уже скоро коров на обед пригонят. Ну что тут поделаешь? Потерялся человек в пространстве и во времени, ибо слаб он на всякие там соблазны, зато хоть иду с уловом.
Дом Степана Антоновича Просвирова я обошел задами-огородами, обогнул деревенское кладбище, которое по иронии судьбы почему-то расположилось посередине деревни в обрамлении яблоневых садов, миновал два заглохших пруда с живописными названиями: Овечий и Слюнявый и вышел на финишную прямую.
Идти до дома мне оставалось метров пятьсот. Близость родного дома придала мне новый приток сил, как усталому коню далекий запах милой его лошадиному сердце конюшни и я прибавил шаг по тропинке, петляющей между яблонь, и тут меня остановил разбойничий свист – мощный, пронзительный, лихой. Таким свистом, вероятно, некогда бородатые сорвиголовы, вооруженные топорами и мясницкими ножами останавливали где-нибудь в неурочном месте, на тихой полянке дремучего леса господские тройки и врастали в землю от ужаса копыта бойких лошадей, прежде чем повиснет на удилах бородатый разбойник. Я тоже замер, как вкопанный, осмотрелся – никого. И только сделал пару шагов, чтобы продолжить свой путь – свист повторился – настойчивый, требовательный, поваливающий. Остановился, но снова ни единой души не увидел.
«Должно быть, пацаны дурачатся, спрятались где-нибудь в кустах и подшучивают так над прохожими», – подумал я, и тут вновь свистнули, и в воздух в метрах ста от меня взлетела пестрая кепка и тогда, присмотревшись, я увидел едва возвышавшуюся над высокой травой, которая и мне местами доходила до пояса, вихрастую голову. Сомнений не было – эта голова могла принадлежать только одному единственному человеку – Степану Антоновичу Просвирову. Конечно, как же мог себя обозначить в этих травяных дебрях безногий человек, кроме как свиснуть, проходящему мимо, и кинуть вверх кепку.
– Здорово, братец! – Антоныч приподнялся, упершись на левую руку на «каталке», а правую протянул мне. Его шершавая ладонь – широкая, мужицкая, с закостеневшими мозолями, с такими, что можно горящие головешки из костра вытаскивать без всякого вреда для здоровья, будто тисками сдавила мою кисть. Антонович так со всеми здоровался. В то время ему было уже под восемьдесят, но никто из всей округи не мог перетянуть его на руках – медвежьей силы был человек. Он посмотрел мне в глаза и весело и озорно заулыбался, обнажая редкие и желтые от табака зубы, – Как улов?
Я показал ему садок с рыбой!
– Гляди, какие славные и жирные, как поросята! – Он достал из садка самого большого карася, поддев его пальцами под жабры, поднес карасиную морду к своему лицу, посмотрел в выпученные рыбьи глаза и с укоризной сказал: – Эх, ты, дурашка, жил бы себе, да жил, ан нет, тоже халявки захотелось. Будет тебе теперь халявка: и мука пшеничная, и сметана жирная. А я тут сено кошу, – дед кивнул в сторону большой, словно бритвой выбритой до черной земли делянки, расчерченной ровными рядами свежескошенной травы, бросил карася в садок, вытер об траву руки от рыбьей слизи и снова заулыбался, – Будь другом прикати мне мою парадновыезную каталку. Есть у меня к тебе дело.
#11973 в Проза
#5020 в Современная проза
#466 в Исторический роман
война, любовь, сталинские лагеря
18+
Отредактировано: 17.06.2017