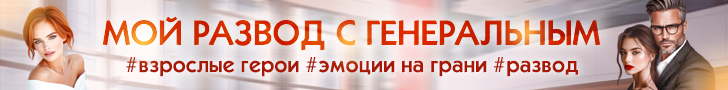Элизиум. Книга 2. Рассвет
Часть первая. Океан
Этот мир для меня опустел.
Очевидно, я сам виноват.
Слишком тягостно в завтра глядел.
Озирался с надеждой назад.
Но по жизни безвольно бредя,
Собирая из пыли свой стих,
Я любуюсь и тешусь, любя,
Не смущаясь терзаний своих.
Может, я умиляюсь себе –
Себялюбец, каких поискать?
Может, я в своей лживой мольбе
Разложенью готов потакать?
Неспособный себя изменить...
Слово «Я» превратилось в тюрьму.
Но одна лишь священная нить
Пробегает, сияя, сквозь тьму.
Эта нить не дает мне истлеть,
Нить любви к той, что выше меня.
На кого я достоин смотреть,
Отражение в сердце храня.
Я останусь вовек тем, кто есть.
Попытаюсь уверовать в рай.
Окажи мне последнюю честь,
Напиши одно слово: «прощай».
Светлое бездонное небо. Уходящая в бесконечность, нежно-лазурная рябь. Линия горизонта. Мириады пляшущих искр.
Крохотный деревянный островок едва покачивался на воде, вместе со своим единственным жителем. Евгений царапал зубами столешницу, сходя с ума от неизбежного.
Он уже не паниковал. Он мыслил. Мыслил так, как на это способен тоскливо-пронзительный ужас, воплотившийся в разуме.
Почему-то он выбрал себе эпитафией именно этот стих. Написанный много лет назад в адрес одной надменной и, как потом стало ясно, не шибко умной особы.
Но все это было в прошлом. Все виденное прежде, все, что казалось важным, кануло в небытие. А теперь… Впереди ждала медленная гибель. Вокруг – прекрасный ад. Снизу и сверху – две синие бездны.
Его унесло куда-то безнадежно далеко. Если б не волны, если б не ночной мрак, он бы дождался возвращения шлюпок. Они бы спасли его. Но теперь…
Евгений много раз хотел умереть. Смерть уже давно казалась ему спасительной черной дверью, пожарным выходом из пыточной камеры бытия. Но самоубийство, как и любой акт искусства, требовало достойной обстановки, надежных инструментов, личной свободы и безопасности, ну и хотя бы самой ничтожной публики, способной оценить и воздать дань. Всей этой роскоши отныне у Евгения не было.
Там, где он оказался теперь, слепое естество, как восставшая чернь, врывалось в тронную залу сбежавшего монарха-духа, и провозглашало низменный девиз: Жить, во что бы то ни стало!
Евгений взглянул на огненного морского ежа в зените.
«Жить! Жить! Жи-ить!»
Ведь если его не станет, то чьими глазами вселенная будет созерцать саму себя? Куда денется весь мир?!
Он вспомнил Мак-Кинли, с его размышлениями об иллюзорности мира. С его полоумными сказками, изреченными в ту колдовскую ночь средь диких гор. С его лицемерной ложью, будто бы ничто не имеет цены большей, чем несуществующая звезда, снятая пьяной рукою с небес.
Мак-Кинли не было здесь. Почему-то именно его, самого надежного и будто бы самого мудрого, больше не было рядом!
Едва память увлекла его мысли, как возвращение в реальность обожгло, точно удар бича.
Деревяшка, волны, небо – и больше ничего!
Евгений трясся, молился, едва дышал, лежа в меланхоличном оцепенении. Временами тщетно вглядывался в горизонт, бредя увидеть, словно божий образ, призрачную струйку черного дыма.
«Я согласился пожертвовать друзьями! Согласился принести в жертву их всех ради себя! – пронзительно зазвенело в его, катящемся неведомо куда мозгу. – «И вот, я один!»
Океан ответил ему беззвучным хохотом.
Разум начинал галлюцинировать. Столик казался ему единственным, что осталось от земли. Последним клочком вещественного мира, болтающимся в вакууме.
Он жался к столу, точно хотел спрятаться в него, слиться с ним в одно целое. Потом вдруг осознавал себя, дрейфующим на волнах, в своем давно забытом жилете, и в ужасе бросался догонять потерянный мирок.
И еще была жажда. Страшная, выжигающая, соленая жажда…
Давным-давно прекрасный фантазер и чудак Мильтон описал захватывающую историю мести Сатаны Богу и обратной мести Бога Сатане. И в этой истории Сатана со всех ракурсов выглядел привлекательнее Бога: тщеславного, эгоистичного, мелочного и жестокого деспота. Дурак-профессор из университета твердил, что поэма Мильтона – не более чем сатира на революционную Англию. Но Евгений-то знал, что Мильтон просто описал то, что есть. Как и составители Ветхого Завета. Ни для кого из них не было тайной, что если Бог создал человека по образу и подобию своему, то человек равен Богу, а Бог человеку. Равен во всех своих низостях. Ну и мир… Этот мир, создать который мог только человек (человечишка!) но уж никак не гуманный, справедливый, самодостаточный сверхразум, источающий добро.
«Стало быть, какие претензии к тому, кто заставляет тебя страдать?»
Евгений не знал, кто задал ему этот вопрос.
Он пребывал уже где-то вне себя. Быть может, способность отделяться от тела вновь вернулась к нему? Или он покидал себя навсегда?
Краем сознания он вспомнил невесть где вычитанную мысль, что причин бояться конца света нет, ибо у каждого он будет свой. Банальнейшее, ясное как день, и, в то же время, безукоризненно верное наблюдение… Ни одна фантазия Иоанна Богослова не пойдет в сравнение с личным, когда это личное окажется у тебя перед глазами. Оно затмит собою все. И не важно: гибнешь ли ты от жажды посреди океана, дрожишь ли в траншее, под артиллерийским огнем или же, всего-то на всего, забыл, как дышать в девяносто лет, сидя в плетеном кресле на балконе своей виллы под Ниццей.
#28748 в Фэнтези
#1442 в Историческое фэнтези
#10636 в Приключенческое фэнтези
Отредактировано: 03.09.2024