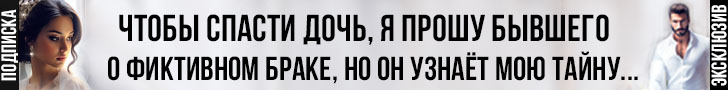Филос. Эрос. Агапэ
Дорогой папа
В комнате настойчиво пахло больницей: лекарствами, хлоркой, какой-то химией и немного гнилью. Запах был как живой, самостоятельный персонаж, который постоянно требовал к себе внимания, не давал сосредоточиться на другом.
Иван Валентинович осторожно, стараясь не напрягать живот, попытался прокашлять тошноту, присохшую изнутри гортани. Немного подвинулся — складка на простыни нестерпимо жгла ссохшееся бедро. Стало легче, но недостаточно. Требовалось переместится еще, но сил не осталось. Он прикрыл глаза и замер.
«Этого не могло случиться! Только не со мной! Мне стать дряхлой развалиной, которая трясется, смердит, забывает всех и вся?! Гадость… Гадость и подлость. Что мне теперь? Ковыряться в памяти: выпил ли таблетку? дверь закрыл? газ выключил? Какой день недели сегодня, месяц, год? Дальше: подтерся ли, надел ли штаны?! Это не про меня! Я не готов!»
— Пап! Съешь хоть ложку! Ради меня! Пожалуйста!
«Отстань! Я ненавижу эту еду. Она как колючая проволока под напряжением! Ты бы стала морского ежа глотать? Нет? А от меня чего ждешь?! И потом, еда твоя запирает меня здесь, в старом тощем теле. Пошла вон со своей ложкой! Как-нибудь без тебя решу, что мне делать, а чего не делать! Без тебя! Не доросла отцом-то командовать!»
— Не хочу, — он говорил тихо, совсем неразборчиво. Чтобы услышать ответ, надо было наклониться низко-низко, пробиться сквозь тяжелое, насыщенное тленом дыхание, приглушить стук сердца.
— Что ты сказал, папочка?
— Не буду.
Надя не сразу унесла кашу. Еще какое-то время вглядывалась в опавшее отцовское лицо — вдруг передумает. Не дождалась, вздохнула, поставила миску на тумбочку и прикрыла салфеткой.
— Тогда попей. Тебе надо хотя бы пить.
— Не хочу.
— Врач сказал, надо пить. Я же не прошу сразу чашку! Хоть пару глотков.
Отец чуть заметно кивнул.
— Я шиповника принесу. Шиповник будешь?
Она прошелестела на кухню. Теперь, навещая отца, Надя старалась ходить беззвучно. Зачем? Уже последние лет пять он плохо слышал, к тому же сейчас, вернувшись из больницы, постоянно находился в полусне. Ее желание поменьше шуметь не подкреплялось здравым смыслом. Но она чувствовала: так правильно, уместно.
Надя возилась долго. Сначала надо было отыскать на чужой кухне чистую марлю, ополоснуть сито, подогреть мутный бурый отвар в щербатом ковшике, процедить, налить в чашку.
«Чистой воды суеверие этот шиповник. Витаминов все равно никаких — один психотерапевтический эффект».
Она зависла над плитой: неосознанно оттягивала возвращение в комнату. Продолжать наблюдать, как остатки отцовского разума прорываются сквозь ставшую избыточной кожу, пытаться сохранить у себя на лице тошнотворно-фальшивое выражение бодрой радости? Надя за пятьдесят лет, которые жила на свете, так привыкла, что отец — это крепость, камень! Еще летом он залихватски, одним движением четвертовал дрова на даче, а сейчас еле волочит себя до туалета и обратно.
Дело не в физической немощи! С ней можно примириться: в конце концов, все ветшают. Надя, к примеру, сама уже отнюдь не первой свежести. Но как примириться с тем, что отец заговаривается, забывает самые простые вещи, не может ответить на обычные вопросы?! Сумерки его ума были невыносимы. Теперь рядом с ним она не чувствовала себя маленьким, хоть и смышленым ребенком — эти сумерки смыли последний клочок ее детства.
В школе и еще раньше все подружки завидовали Надежде: такого отца не было ни у одной. Впрочем, у многих из них отцов вообще не было. То есть, формально были: пересылали алименты, дарили подарки на день рождения, иногда водили в кино, но чтобы выпиливать с дочкой лобзиком кружевные подставочки под горячее, выращивать цыплят в самодельном инкубаторе на кухне городской квартиры, мастерить вместе резную мебель для кукол — о таком никто даже и мечтать не смел. А для Нади — обычное дело. Ее папа был героем рекламного плаката про счастливое советское детство.
У него самого-то детства не было. Отец родился в тридцать седьмом. Его мать — Надина бабушка — происходила из неблагополучной семьи: в родителях значились офицер царской армии и выпускница Смольного института благородных девиц. У бабушки хватило ума не усугублять — вышла замуж за молодого коммуниста, поменяла фамилию и умчалась за любимым в Курск. Там и произвела первенца. Назвали Иваном — в честь свекра. Остались две фотографии. На одной — папа, щекастый лысоватый малыш с девичьи-изгибчивыми бровями, таращится, намертво вцепившись в деревянную лошадь. На другой — чуть старше — уже в кудрях и с шелковым бантом под воротничком сорочки — строго улыбается в объектив. Обе эти карточки деду прислали на фронт, он носил их при себе все войну.
Наде никогда не нравились эти снимки. Ей смутно хотелось, чтобы отец не имел никакого отношения к тому беспомощному возрасту. Пусть бы он никогда не был ребенком! Тем более, ничего радужного тогда с ним не происходило: непонятно, как выжил.
Отец рассказывал.
— Думаю, года четыре мне было — едем куда-то с матерью на поезде и очень есть хочется. Так хочется есть, что я сплю, и мне голод снится. Вдруг слышу: зовут, тормошат, но я стараюсь не просыпаться, потому что, когда проснешься, станет еще голодней. В конце концов, разбудили-таки. Оказывается, я с багажной полки упал. Там над верхним спальным местом — под потолком — такое специальное отделение для сумок. Мать перепугалась, решила, что разбился насмерть. А мне — хоть бы что! Даже не ушибся. Какая-то тетенька сердобольная хлеба дала. Я потому тот случай запомнил, что вдруг наелся. Повезло.
Или такая история!
— Я в эвакуации ходил в круглосуточный детский сад. Нас выводили погулять на какую-то лужайку. А там стоял пень. У этого пня спил был неровный, с боку кора торчала таким здоровенным острым заусенцем. Я с разбегу на эту кору горлом напоролся: насквозь пробило под подбородком и около языка в рот вылезло. Нянечка меня схватила, поволокла к фельдшеру в медчасть. Там меня скрутили, чтобы не рыпался, стали куски пня тащить. А это же дерево! Оно крошится в ране… цепляется за все… занозы… Я, конечно, ору, извиваюсь… Ну ничего: почистили, зашили… Какой там наркоз?! Йода не было! Спиртом сверху залили и еще глотнуть дали, для профилактики… Мать дня через три только узнала… Она работала. Пришла на выходных навестить, тогда ей сказали… Ничего — зажило как на собаке. Правда, я после долго не разговаривал.
Это, кстати, были ягодки! На седьмом году своей жизни отец начал курить. Считалось, что от курева якобы не хочется есть, но это оказалось неправдой. Другой аргумент был убедительней: Алик — сын соседки, тринадцатилетний балбес, которого оставляли иногда приглядывать за Иваном — смолил вовсю. Больше того: таскал папиросы из карманов чужих пиджаков, за что бывал уличаем и бит. С точки зрения Алика, шестилетний херувим мог стать идеальным подельником, надо было только убедить Ванечку, что красть курево в его интересах, поэтому несколько раз в день заставлял малого прикладываться к самокрутке. А если тот отказывался — давал увесистого леща. Через некоторое время Иван приноровился, от махорки уже не тошнило, курение стало привычной, хоть и противной процедурой. Впрочем, не все было так плохо. Когда он вернулся после эвакуации к себе на Васильевский, сразу приняли «своим» у старших. Его брали на Смоленское кладбище подчищать раскуроченные царские могилы на предмет орденов и прочей мелочи, которую обычно сбывали на Сытном рынке — на всякий случай, чтобы не светиться. Еще молодые флибустьеры искали неразорвавшиеся снаряды, патроны, чтобы взрывать в костре. Оглушительно грохотало, осколки разлетались в стороны, калечили нерасторопных. При неудачном раскладе могло оторвать руку, выжечь глаз или пробить череп, но это только прибавляло восторг. Отцу везло: пару раз искрой слегка поджарило, и всё.
Когда он подрос, стал ходить в ЦПКиО на танцы. Танцы его мало интересовали, но после, как правило, случались масштабные битвы стенка на стенку — василеостровские против петроградских. На мероприятие принято было брать с собой инвентарь: свинцовую гирьку или биту, которая умещалась в сжатом кулаке, железный прут, завернутый в газету. Во время драки следовало беречь лицо, потому что за разбитый нос или глаз отвечать приходилось перед матерью. Мать могла не только всыпать по первое число за такие «танцы», но и наорать прилюдно, запретить «шляться невесть где», или того хуже — заплакать.
Надя не знала, сколько правды в рассказах отца, но ей нравилось им верить. Она бы могла влюбиться в такого парня — гибкого, светлоглазого, постоянно готового к драке; такого — с «воровской походочкой» и рабочим рельефом мышц под суконной «бобочкой». Иван Валентинович и в преклонные лета не утратил! Однажды Надежда с отцом возвращались с дачи на последней электричке. В вагоне было полтора человека, причем половина приходилась на мужчину средних лет в глубочайшем подпитии. Надя дремала, папа смотрел в окно, время от времени ворча о всеобщем непорядке, воровстве и мздоимстве.
Трое гопников возникли прямо из воздуха. Стало шумно и тревожно. Они пили, плевались, хрустели целлофаном, механически отсмеивались, переругивались между собой громко, на публику. Минут через пять они заметили того пьяного дядьку. Переглянулись, перекинулись парой приглушенных реплик и быстро двинулись вдоль вагона прямо к нему. Двое остановились в шаге от жертвы, а третий ловким движением опростал его карманы. Парни не скрываясь изучали добычу: документы, потертое портмоне, ключи… Надя сидела как на иголках, не понимая, что предпринять, и момент, когда отец подошел к мерзавцам, она упустила.
— И что это вы такое, деточки, делаете? — отец улыбался, руки его покоились в карманах, но в тоне, которым он задал вопрос, было что-то неуловимо повелительное.
Парни замолчали и напряглись. Со стороны это выглядело так: три молодых шакала получили очередного «терпилу» и сейчас вдоволь покуражатся над глупым стариком. Надя хотела закричать, но не смогла: слова не шли. Чувство такое, будто вместо того, чтобы звать на помощь — таращишься и давишься воздухом, словно тонешь.
— Вы, мальчики, не шалите — верните человеку кошелек. Нехорошо это.
Папа шагнул к одному из парней, расстояние между ними стало интимным.
«Сейчас будут бить!» — проскочило в мыслях, и от паники у Нади перехватило дыхание. Но гопник, вместо того чтобы ударить, бросил бумажник на пол, зыркнул на двух других — те, матерясь под нос, скинули остальную добычу и неожиданно двинулись к дверям, в тамбур. Как это произошло и почему, Надежда не поняла. Она много раз хотела узнать у отца, не было ли ему страшно, и чтобы он сделал, начнись драка, но так и не спросила.
— Паап! Ты спишь?
Отец, даже когда лежал на боку, почти не выделялся под одеялом. Надя угадала его позу по покрытому серебристым пушком затылку. Она присела на кровать, цепляясь за чашку с шиповником, как за спасательный круг.
— Попей, пожалуйста! Теплое, не горячее.
Иван Валентинович повернул голову, посмотрел на дочь. Не спал, но дурацкий теплый шиповник ужасно злил его. Пить не хотелось, а это варево тем более! Выплеснуть бы его с оттяжкой, как плевок по длинной параболе, чтобы каждая бурая капля навеки впечаталась в стену! Но девочка в чем виновата? Расстроится, примется оттирать… Он кивнул, попробовал присесть, оперевшись на подушки. Не смог. Надя уловила движение, метнулась помогать.
Привычная злость на себя, на свою немощь, на жизнь, которая, ему казалось, длилась лишнее, взбодрила Ивана Валентиновича. Он оттолкнул дочкины руки, выдохнул и сел сам. От напряжения вспотел, даже захотел пить. Так что шиповник оказался кстати!
Надя привстала, чтобы дотянуться опустевшей чашкой до стола во главе кровати. Когда она была маленькой, этот отцовский письменный стол был самым желанным местом в доме. Его ящики запирались. Длинные золотые ключики с головами-сердечками торчали из скважин, но Надя никогда не смела воспользоваться отцовским отсутствием.
Там, в этих ящиках, чего только не хранилось! Обменные марки в маленьких бархатистых кляссерах, серебряный лом, одинокие сережки, порванные бусы, браслеты с неисправными замочками, множество колесиков, пружинок, крошечных винтиков от часов, старинные маникюрные принадлежности, кабошоны и куски необработанного янтаря самых разных оттенков, набалдашники для трости, портсигары, трубки, золотистые коробки из под табака (в некоторых хранился табак, проложенный стружками яблока, а в других — что угодно), разноцветные обрезки кожи и замши, детали бронзовых статуэток… Время от времени папа открывал для Нади эту Страну Чудес, и они вдвоем пускались в увлекательное путешествие по закромам бюро. Иногда просто так, иногда по поводу.
— Пап! К этому платью ничего не подходит! Сюда нужно что-нибудь зеленое, а у меня даже кольца нет!
— Сейчас посмотрим. Мне кажется, где-то лежал нефритовый кабошон.
Отец открывал ящик; надевал на глаз лупу; ковырялся в шкатулочках, в мешочках, коробочках; что-то скручивал, паял. Через час-полтора (Надя как раз успевала накраситься и причесаться) он приносил дочери серьги или кольцо, или всё сразу. Какой красивой она себя чувствовала! Какой любимой!
(«А кто у нас отец? — Волшебник!»)
Последние годы Надя редко навещала Ивана Валентиновича. Общение было похоже на опросный лист: как самочувствие? есть ли жалобы? нужно ли чем-нибудь помочь? Она радовалась, когда выдавалась возможность сделать для папы что-то конкретное: отвезти, забрать, договориться. Тогда чувство вины становилось чуть глуше. Но отец был человеком автономным, о помощи не просил, а если же дочь настаивала, соглашался нехотя, через силу, к тому же норовил оплатить хлопоты.
Все это выглядело как в детстве, но наоборот — теперь они поменялись местами. Тогда Наде понадобились карманные деньги, и она спросила родителей — не знают ли они такого места, где берут на работу школьников.
Иван Валентинович сказал, что все вакансии такого рода — сомнительные, но есть небольшой заказ, который он не успевает вовремя закончить, и если Надя поучаствует, то он разделит с ней гонорар. В общем, после ее «помощи» отцу пришлось все переделывать, но узнала она об этом случайно, много месяцев спустя, когда деньги были давно истрачены…
Она сидела на краю отцовской кровати, молча смотрела на Ивана Валентиновича — маленького, истончившегося, с огромными глазами на щуплом, драпированном морщинами лице — ругала себя и не могла наругаться!
Еще недавно отец был общителен, разговорчив. Ей тогда казалось, что слишком разговорчив. Во время праздничных застолий он пускался в долгие воспоминания, пространно погружался в биографии каких-то малозначительных родственников. Эти родственники путались у Нади в голове, превращались в семейного голема, слепленного из десятков жизней.
— Дядя Коля был большой ученый. Он с Циолковским работал! А его сын — Вася — меня в институт готовил. Он тогда уже защитился. Тоже очень умным был. Служил доцентом в московском университете.
— Дядя Коля? Ты же говорил, что он двадцатилетним в Великую Отечественную погиб и даже жениться не успел.
— Это другой. Тот мамин брат, а это папин. Он аж 1880 года рождения, если не путаю. У Васи тоже был сын — Валька. На полтора года меня младше. Утонул лет в пятнадцать…
— В смысле утонул?
— Да обычно. На спор с пацанами поплыли через речку. А вода была холодная — начало июня. В общем, то ли судорогой свело, то ли с течением не справился. Я уже плохо помню.
— А Василий? Ты с ним общался? Дружил?
— Они все в Москве жили. Мы редко виделись. Вася был ровесник отцу — твоему деду — а умер на год раньше — в пятьдесят — тоже от инфаркта. И еще была тетя Лёля — средняя из детей. В войну погибла. Ехала в трамвае — и случайным осколком в голову. А больше тогда в трамвае никого не задело. И знаешь, что удивительно: за несколько дней до того их дом в чистую разбомбило, а ее пронесло, потому что на работе задержалась. Минут на десять всего… А все равно, судьба…
Родственников по обеим папиным линиям звали не слишком разнообразно: Николай, Василий, Иван, а женщин и вовсе только Ольга или Александра. Все они часто менялись местами жительства: московские внезапно оказывались в Ленинграде или того лучше — в каком-нибудь Курске, Смоленске, Туле, а ленинградские вдруг приживались в столице. Надя постоянно путалась и не понимала — чей сын женился на оперной певице из Киева, а кто дослужился до директора оборонного завода. Сейчас уже бессмысленно расспрашивать. Если бы она, вместо того чтобы изнемогать от скуки, записывала отцовы истории на диктофон…
Надя встала. Спина затекла и противно ныла. Да еще ногу отсидела!
— Надюша! Иди-ка ты домой, доченька. Поздно уже. Завтра приезжай.
Папа говорил тихо, но внятно, не размазывал слова, не задыхался между слогами. Как будто ему стало лучше. Не шиповник же ему помог?
— Нет уж! Тебе нельзя одному. А если ночью хуже станет?
— Тогда позвоню. Честное слово. Мне не поспать даже как следует. Ты постоянно меня будишь! А еще смотришь! Иди уже!
Наде очень хотелось уйти. Она устала! Проведывать папу было самым тяжелым деланием — точнее, неделанием — из всех. Действительно, может без нее он выспится, станет бодрее, появится аппетит. И Надя отдохнет. Сейчас зайдет в ближайший магазин, купит коньяку или вина поприличнее, завалится к Альке в гости. А если заглянет Алин братец, то к дружеской пьянке прибавится легкий флирт. Совсем невинный! Мишенька, конечно, состоял какое-то время в Надиных ухажерах, но давно — еще в школе. Тогда им обоим не понравилось, и последние лет тридцать пять они дружат, но с каким-то особым придыханием. Надя улыбнулась, представив себе Мишкины томные комплименты.
— Пап! Я тогда питье перелью в бутылку и здесь у кровати поставлю. И трубочку коктейльную, видишь? И телефон — вот, прямо под рукой. Не забудешь?
— Не забуду! Все нормально.
— Тогда я пошла. Люблю тебя.
— И я тебя, доченька. Очень.
Она поцеловала отца в желтый, в пигментных пятнах висок, похожий на страницу старой книги, выключила свет и выпорхнула за дверь.
Алька была дома. Зашел Мишка. Они ужасно напились, орали в открытое окно про группу крови и алюминиевые огурцы. Миша уполз в три утра, влекомый угрозой развода, а дамы уснули где пришлось: Надя — в кресле, Аля — на диване, оставив на столе руины покупных салатов и грязной посуды. Надежда встала в пять. Никаких следов недавней невоздержанности: даже голова не кружилась. «Папа умер, — подумала она. — Специально сплавил, чтобы не мешала. Чтобы скорую не вызвала, не психовала. Просто взял и ушел!» Она бессильно разозлилась. У нее было ощущение, даже уверенность, что он сам выбрал время. Впрочем, это в его репертуаре: решил — сделал! А что там остальные думают — по боку! Слезы затекали за ворот свитера, противно щекотали подбородок. Всхлипы разбудили Альку, и она испуганно затаращилась на Надю, которая, уже не сдерживаясь, выла в голос, в который раз набирая номер отцовского телефона.
— Надь! Папа? Папа? Не реви! Я сейчас такси вызову, поедем… Хотя, реви. Может, тебе легче будет.
Аля организовала машину, напялила на подругу пальто, обула, вывела на улицу. Пахло чем-то предутренним: не рассветом, конечно, но обещанием рассвета. Холод сушил лицо.
Надя перестала плакать и спокойно стояла, вглядывалась в темноту дороги, ожидая такси. Мама постоянно твердила, что пора взрослеть, а папа — никогда. Как будто не хотел, чтобы она выросла. И Надя не хотела. А теперь, наверное, придется… Всем приходится… Только не всем повезло, как ей. Так бережно, до последнего отсчета, прожить папиной маленькой девочкой — разве не подарок это? Как не быть за него благодарной? И она благодарна! Очень!
Рядом остановился видавший виды фольксваген, обе женщины уселись сзади. Аля обняла Надежду за плечи и тихо покачивала, как ребенка. Кажется, начинало светать. Надя призакрыла глаза и наблюдала сквозь ресницы, как огни придорожных фонарей образуют длинную слепящую ленту.
«Дорогой папа! Люблю тебя сильно-сильно. Пусть там все будет хорошо. Твоя дочь Надя».