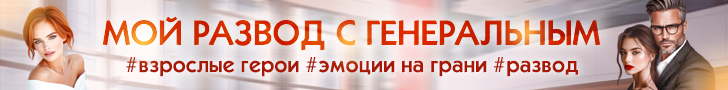Герцогиня нашего двора
Герцогиня нашего двора
У подъезда она появлялась всегда внезапно, как будто не подходила, а подлетала, едва касаясь асфальта острыми и звонкими набойками своих каблуков. Сплетницы на скамейке умолкали. Она рассеянно кивала им и скрывалась в темной прохладной глубине за непарадным входом. Дверь затворялась за ней без шума и скрипа. Воздух, поднятый с ее появлением, успокаивался не сразу. Она была уже у себя в квартире и не могла ничего слышать, но что-то мешало кумушкам тотчас вернуться к любимому занятию – обсуждению ее нарядов, характера, а также образа жизни ее самой и всей ее семьи.
– На каблучищах бегает, все думает, что молоденькая, – наконец подавала голос самая бесцеремонная из соседок, баба Клава, по прозвищу Баклава, жирная и липучая, как это восточное лакомство.
– Она в магазины-то вообще ходит? Хлеба и то домой не принесет. Ни разу не видела ее с авоськой! – с готовностью поддерживала дворничиха Лизавета. – Что бы они ели без Любови Никифоровны?
– Она и дома ни к чему не прикасается, руки бережет. Герцогиня нашлась, – фыркала Светлана Семеновна, учительница на пенсии. – И Анька у нее такая же эгоистка и воображала, вся в мать. Эх, молодежь, молодежь. Думают, они-то никогда не будут старыми.
«Герцогиня… – услышала я, проходя мимо. – Вот оно! Да!..»
– Кто молодежь? – взвивалась Баклава. – Это она-то? Да сколько б она морду ни мазала и ноги напоказ ни выставляла, все знают, что ей тридцать три! Пора и угомониться. Попрыгунья-стрекоза, лето красное пропела… Мариночка, здравствуй, деточка! – Это уже мне: меня подъездные старухи любили за скромный вид и вежливость, и еще жалели, потому что мама уже три года растила меня одна. – Как мамочка, здорова? – И опять, чуть понизив голос, подругам: – Вот я понимаю, баба надрывается, ребенка тянет, домой работу носит, ночами над бумажками своими сидит, и знает, сколько стоит литр молока, не то что некоторые… Все гарцуют… Тьфу!
Двор наш совсем не походил на Версаль. Это был обычный дворик, образованный четырьмя блочными пятиэтажками в центре большого промышленного города. Зимой – в сугробах и смерзшихся кучах колотого льда вдоль поребриков, летом – в одуванчиках и тополином пуху, осенью – мокрый или стылый, заваленный прелыми листьями, с раскисшими дорожками, по которыми старались не ходить: потом было не избавиться от налипшей на подошвы грязи. Окна Герцогининого дома выходили на объездную улицу, по которой день и ночь грохотали тяжелые машины. И сама Герцогиня тоже была не де Ланже и не де Мофриньез, хотя именно их сестрой она представлялась в моем четырнадцатилетнем замороченном Бальзаком воображении. Имя у нее было красивое, но обычное – Валерия Ивановна. А вот фамилия по мужу Герцогине досталась совсем неподходящая – Ключарь. Герцогиня приходилась родной матерью моей лучшей подруге Аньке, и я бывала у них почти ежедневно.
Подруг у меня было две, и обе лучшие: Анька и Анечка. С Анькой я училась в одном классе. Анечку, тоже ровесницу, из-за старинной дружбы наших бабушек знала практически всю жизнь. Позже появилась еще Анна, студентка, репетировавшая меня по алгебре и геометрии. Она, правда, подругой не стала – была старше на пять лет и относилась ко мне насмешливо-покровительственно, презирая уже за то, что в моих учебниках написано «треугольники равны», а в ее школьные времена они были «конгруэнтны». «Это все равно что сказать «Шкаф равен шкафу!», как ты не понимаешь?» – кричала Анна, а я действительно не понимала, чего она так распаляется.
Особенно безмятежной была моя дружба с Анькой. Хоть ей нравился «Модерн Токинг», а мне Окуджава, но мы выросли на одной шумной улице, в одинаковых двухкомнатных «хрущобах» с совмещенными санузлами, и вскормлены были одним и тем же супом из рыбных консервов, на который наши бережливые бабушки переходили за три дня до родительских зарплат. Наша третья подруга Анечка росла как лилия в тихой заводи – на другой стороне улицы, в тенистом дворике, в кирпичном доме, где на ее этаж ходил лифт со стеклянными дверями, точь-в-точь такой, как в старом кино. Она была «девочка из хорошей семьи», дочь крупного начальника, и, как полагается таким девочкам, ходила в английскую и музыкальную школы. Единственная из нас она не знала, что такое детский сад и продленка. В детстве у Анечки были самые красивые куклы, а когда позднее, в старших классах и в начале студенчества мы с Анькой еще носили одежду с чужого плеча или самосшитые и самовывязанные по «Бурде моден» вещички, так же похожие на оригинал, как ящерица на крокодила, Анечку можно было принять за юную славянскую модель из «Вог», воплощение скромности и шарма. Мы носили «конские хвосты» или завивали волосы железными «паяльниками» и экспериментировали с боевой раскраской, Анечка ходила с чистым лицом и толстой пепельно-русой косой. Тем не менее, никто из нас никому не завидовал – может, потому, что роли в нашем трио были распределены идеально. Я исполняла роль записной умницы, Анька – начинающей оторвы, а деликатная и кроткая Анечка была, во-первых, красавицей, а во-вторых, тем маслом, которое скрепляло два сухих ломтика хлеба. В глазах родителей она служила нам несокрушимым алиби: невозможно было вообразить, что в компании такой хорошей девочки мы с Анькой способны ввязаться в какую-нибудь историю. Если мы ссорились между собой из-за несовпадений вкусов – Анечка нас мирила. Даже в пустяках она была великодушна. Когда мы втроем после уроков болтались по улицам, Анечка настаивала, чтобы я шла посередине: «Пусть Маринка будет между двумя Анями. Нам все равно, а она сможет желание загадать!»
Мать у Анечки была тоже красивая, высокая, элегантная дама. Нас она всегда встречала приветливо, наливала чай в чашки с блюдцами, ставила вазочку с домашним печеньем. По-настоящему это она принадлежала к другому кругу, а вовсе не Анькины или мои родители. Но на бальзаковскую герцогиню она совсем не походила. Слишком благополучный у нее был вид. Не хватало драматического излома бровей, хрипотцы в голосе, нервной складки губ, затаенного блеска глаз, неотмирности какой-то, что ли... Я знала, что Бальзак трепетал перед аристократией и хорошо относился к простолюдинам, но презирал буржуазию. Кажется, я начинала понимать, за что.
Родители Анечки часто ходили в театр оперы и балета и сидели там нарядные и важные, будто в президиуме. Моя мама и ее друзья к театру были равнодушны, вечерних туалетов не имели и изредка бегали в кино в своих водолазках вечных шестидесятников. А вот Валерия Ивановна Ключарь, Герцогиня, вечерами просто исчезала. Одна. Куда и с кем она ходила – на квартирную выставку запрещенного художника-авангардиста, на единственный концерт столичного виртуоза (билеты с рук за бешеные деньги), а может, изменяла своему мужу в какой-нибудь другой тесной «хрущобе» с ковром на стене, тайком, бегом, пригубив вместо Шатонёф дю Пап сладкого советского вина «Улыбка», – тайна сия была велика.
Она возвращалась, сбрасывала шубку (пальто, плащ, жакет…), стуча каблучками, шла в комнату, отстраняла одним движением руки своего пятилетнего сына Лешку, который бросался ей под ноги, выкрикивая какую-нибудь рифмованную чепуху вроде «Люби бокал, будет хороший кал!». Скользила взглядом по стенам с дешевыми обоями, хмурила брови… о, как же она, только она одна их хмурила!
Живи мы все в бальзаковском мире, Анечкина мать сводила бы брови на переносице, рассчитывая проворовавшегося лакея. Моя мама терла бы лоб, размышляя, как дотянуть до выплаты по скудной ренте, не закладывая в ломбард золотых часов, единственной памяти о покойном муже. Но во взметнувшихся бровях Валерии Ивановны была бы, наверное, та же сладость тайны, то же безумное желание счастья, тот же дымок тлеющих на медленном огне надежд, отравленных собственной горечью и умирающих одна за другой, но не способных окончательно исчезнуть…