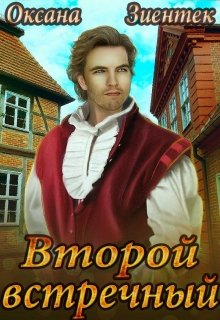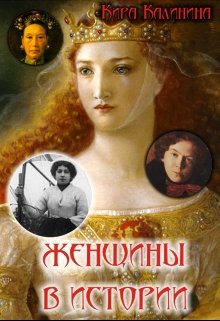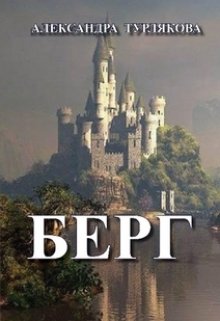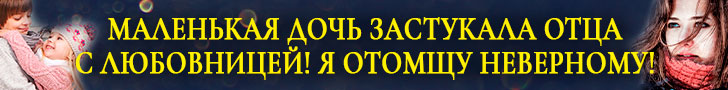Гильотина
Гильотина
Вот незадача!
В тюрьме Пангац, что неподалеку от Олешкува, была всего одна виселица.
Крепко сбитая из сосновых досок и брусьев, с вознесённым на трёхметровую высоту помостом-эшафотом, с задранной сверх того ещё на двухметровую высоту глаголицей и свисающей с неё на отмеренную господином палачом длину петлёй из туго скрученной пеньковой верёвки – она, конечно, не была красавицей.
Долговязая, не слишком гладко оструганная, да к тому же ещё и по скупости господина начальника тюрьмы не крашенная, она уж верно не была прима мира виселиц и висельных приспособлений.
Но господин палач Кровец её любил.
Любил искренне и глубоко, как только может любить близкое ему, хоть и едва ли одушевлённое существо простой олешкувский мужик, волею (и милостью) судьбы ставший палачом.
И тому были причины. Не только субъективные.
Да, Кровец любил свою работу. И всё, с нею связанное.
Это материя сугубо субъективная.
А объективно и положа руку на сердце, признаем очевидный факт: виселица в тюрьме одна.
Второй нет.
Нет другой. Не предусмотрена.
Дорогая эта штука – виселица. Потому что не просто виселица, не абы какая, не та, на которой в прошлые времена конокрадов вешали, а такая виселица, что и перед просвещёнными народами не стыдно за неё и за себя, даже когда её по назначению используешь.
Всё, как в цивилизованных странах, и как положено по инструкции Министерства: высоко поднятый помост, люк с двумя широко распахивающимися крышками, рычаг, при нажатии на который эти самые крышки распахиваются, а так же лебёдка и блок для регулирования провиса петли.
Так что достопочтенный Кровец, подкручивая лебёдку и замеряя складной линейкой длину лоснящейся от льняного масла пеньки, чувствовал себя подлинно мастером-механиком, этаким премудрым часовщиком, настраивающим нуждающийся в тонкой регулировке хитро и замысловато устроенный механизм.
И само осознание того, что порученное его попечению устройство есть по сути машина, способная осуществить великое таинство отъятия жизни, наполняло душу Кровца радостным, хотя и смутно осознаваемым волнением.
Но главное же волнение проистекало от того, что судьба самого Кровца, судьба всех его тюремных сотоварищей и сослуживцев, даже судьба самого господина начальника тюрьмы (хоть о том и подумать страшно!) зависела от работы этой самой виселицы.
Ибо тюрьма Пангац в соответствие с секретной инструкцией Министерства имела особый статус и специальный режим, действуя исключительно как заведение, в коем приводились в исполнение смертные приговоры особо опасным преступникам.
И случись что с этой самой премудрой машиной…
Да, последствия были бы печальными.
Волею гуманного императора количество подобных тюрем по всей империи было сокращено до двух (вторая находилась и вовсе где-то у самых Карпат, в глухой провинции), фонды на ремонт виселицы были израсходованы на три года вперёд (признаться, большую часть фондов господин начальник Дихгоф изволил потратить на подарки этой заезжей актриске Клодель… чёрт бы её побрал с её аристократическими запросами, эту писклявую расфуфыренную бабу! и что только господа в таких бабах находят? У Кровца в родной деревне от таких и коровы бы шарахались!)
Так что случись что…
И объективно говоря, правильно делал Кровец, что любил свою мадам-виселицу.
Были тому объективные причины.
Она кормила.
Должностной оклад, и особые условия работы, и доплаты за ночную смену (и по ночам приговоры приводились в исполнение, а как же!)
А тут ещё и революция грянула!
Жалованье сразу увеличили. Но и работы сильно прибавилось.
Раньше в тюрьме Пангац больше трёх десятков приговорённых никогда не было. Да и из тех десятков часть освобождали.
Кто побойчее был, пограмотнее, адвоката мог толкового нанять, деньжат куда надо подбросить – выходил.
Не всегда, но выходил.
Не всегда на свободу, чаще – в другую тюрьму. Ту, которая без деревянных красавиц.
Но выходил.
А двое на памяти Кровца – и вовсе на свободу. За полторы тысячи геллеров на каждого.
Было дело.
А потом и приговорённые косяком пошли, до двух сотен число увеличилось. И всё больше политические, по закону о чрезвычайном положении. А их и за большие деньги не освобождали.
Работы, как и было сказано выше, прибавилось.
И зародились в душе Кровца дурные предчувствия.
Видел он, что деревянная подруга с возросшей нагрузкой явно не справляется.
С тоскою вслушивался он в ржавый, больной скрип петель, с трудом держащий крышки люка, которым уже и ежедневная смазка не помогала, чувствовал возрастающее сопротивление ходу рычага, на каждом рывке напрягая мышцы всё больше и больше.
И понимал, что долго так продолжаться… Да что там долго – ещё с десяток казней, и конец.
Конец наступил на восьмой казни.
Люк попросту провалился под грузным мужичком, бывшим мясником, который в революционной суматохе зарезал задолжавшего ему крупную сумму за поставки свиной вырезки столичного лавочника, после чего получил приговор суда, и отправился на встречу с Кровцом и его подругой.
Свидание оказалось скомканным по причине изрядного веса бывшего мясника и хрупкости измотанных тяжёлой работой креплений.
Впрочем, казнь всё равно состоялась.
Мясник при падении ударился шеей о балку и сломал позвонки, так что успокоительных слов Кровца: «ты, милый, потерпи, я сейчас что-нибудь придумаю!» он уже не услышал.
Однако же казнь состоялась с нарушением предписанных инструкцией Министерства процедур, отчего полагающуюся палачу доплату к жалованью посчитали не полагающейся, а корма для куриц за июнь месяц и вовсе лишили.
Настроение Кровца было препоганое.
Вот незадача!
Надо же такому случиться!
Была виселица в тюрьме Пангац – и нет её.
И ведь крепления эти трижды проклятые не только вылетели из гнёзд, но и прихватили с собой немалый кусок доски.
И на белом выломе показались бурые пятна гнили.
И пустили помост в прачечную, на растопку.
Блок, рычаг и прочую механику сняли, поначалу решив оставить про запас.
Потому как была надежда, что сколотят новую виселицу.
Ведь революция там, то да сё…
Куда ж без виселицы?
Но тут фельдкурьер привёз из столицы депешу: виселицы не будет.
За отсутствием оной исполнения пока прекратить.
Начальник тюрьмы затосковал. Надзиратели затосковали.
Кровец за ужином распоследними словами отругал супругу за пересоленное жаркое, пригрозил ей вожжами и небесными карами, после чего слазил в погреб за бутылкой настойки.
Супруга вздыхала, и смотрела на него с жалостью.
Все приготовились к самому наихудшему.
Понятно было, что в следующей депеше…
Следующую депешу привёз лично господин прокурор.
Содержалась в ней информация чрезвычайной важности.
Ввиду такой чрезвычайной важности господин прокурор встретился с господином начальником тюрьмы с глазу на глаз, в кабинете господина начальника.
Заперев дверь.
Почти тет-а-тет.
«Почти» - потому что два таких важных господина, конечно же, вели разговор не за пустым столом, и самих себя обслуживать не слишком привыкли.
Прислуживал им Кровец.
Как самый надёжный и проверенный сотрудник тюрьмы.
Поначалу разговор их был Кровцу совсем не интересен.
Говорили недавно открывшемся новом столичном ресторане…
И не жалко господам кучу денег платить за каких-то лягушек печёных, да прочих гадов, что в тех ресторанах подают? Кровец в столичные заведения отродясь не заглядывал, но кум Юзеф божился, что своими глазами видел, как тех лягушек подают, да ещё и на фарфоре.
Юзеф год в столице жил, ему можно верить.
Зажрались, небось, вот и тянет на гадость всякую. Неужто их к исповеди допускают после такого-то срама?
…чудесную оперетту, в которой блистает сама госпожа…
Девки там худые и развратные! Юзеф говорил, что косяком за ним бегали, а одна, важная такая, так прямо в карету затащила. Может, и затащила.. Юзеф – парень видный. Форму на него надень – так и от офицера не отличишь!
…и эти ужасные события на Дунае, из-за которых само выживание империи поставлено на карту.
Кстати, партию?
За картами господа пили коньяк.
Дважды Кровец готовил им кофе, с аккуратностью расставляя на серебряном подносе изготовленные из тонкого саксонского фарфора чашечки, украшенные по краям рельефным ажурным узором.
С его-то толстыми пальцами делать это было совсем непросто!
Игра затянулась.
Кровец, притулившийся в кресле возле дверей кабинета, заскучал и начал было подрёмывать, сдержанно посапывая и периодически высовывая серо-розовый кончик языка.
И из-за этого некстати подобравшегося сна пропустил начало самого интересного в тот день разговора.
Проснулся он, заслышав волшебное слово «экзекуция».
- …возобновляется! – торжественно объявил прокурор.
- Господин Бубер! – радостно затянул Дихгоф.
- А вы уж, верно, узелок приготовили? – изволил пошутить господин прокурор, и подмигнул господину начальнику.
И продолжил (и это Кровец слышал уже вполне отчётливо):
- Нет, Дихгоф, нет! Не время нам готовить узелки, не время уходить на покой. И едва ли кто-нибудь решится сейчас ликвидировать такую замечательную, почти что образцовую тюрьму как Пангац. Нет, сейчас…
Бубер как-то особенно выделил слово «сейчас».
- …никто на это не пойдёт. Уж поверьте мне! Более того, вас, так сказать, повышают в статусе. Из тюрьмы особо режима вы становитесь тюрьмой режима чрезвычайного.
«Виселицу восстановят?» с затаённой надеждой подумал Кровец, и беспокойно заворочался в кресле.
Господин начальник всплеснул руками.
- Но можно ли надеяться на такую милость судьбы, господин Бубер? Изволите ли знать…
- Знаю! – отрезал Бубер.
И, вынув из кармана мундира серый конверт, передал его Дихгофу.
- В разгар судебных процессов по делу об июньском восстании ваша виселица выходит из строя. И информация об этом попадет в прессу! И чёрт с ними, с жалкими писаками в парламенте, но эти столичные умники…
Бубер поморщился, будто вместо коньяка глотнул украдкой рыбий жир.
- Тот же адвокат Зраднер, что уже пятерых вывел из вашего попечения! На улице его приветствуют аплодисментами и осыпают розами, в подрывных листах, которые мы, к сожалению, пока не успеваем вовремя конфисковывать, этого столичного болтуна называют спасителем свободы и совестью народа, студенты ходят за ним толпами, а экзальтированные барышни покрывают поцелуями его портреты в узорных рамочках и прячут их под подушки. Должно быть, в надежде увидеться с кумиром хоть во сне! И знаете, что натворил это негодяй? Этот вождь нигилистов? Он обвинил нас… Нас!..
Бубер схватился за сердце, постучал ладонью по груди.
- Клянусь, мы ни при чём! – осторожно вклинился в паузу Дихгоф. – Служебная тайна… Но адвокаты приходят и к нам, иногда… И любой из них мог вынести сведения о том, что отмена казней…
Бубер взмахнул рукой, повелевая господина начальнику замолчать, и, одним длинным глотком опрокинув в себя изрядную порцию коньяка, продолжил:
- Он обвинил нас в неспособности поддерживать элементарный порядок во вверенном нам государстве! «Даже палаческое ремесло слишком сложно для них» вот что провозгласил этот мерзавец.
Кровец ухмыльнулся.
«Попался бы мне этот Зраднер!»
- Представляете, Дихгоф? Адвокатишка совсем обнаглел. Мы, верные слуги императора, по его мнению провалили реформу налогов и земельных наделов. Превратили империю в дикую смесь казармы, борделя, лепрозория, приюта маргиналов и клуба выдающихся казнокрадов. Из-за нашей вопиющей некомпетентности уже в половине имперских земель подумывают о конфедерации, а при более удобном случае подумают и полном суверенитете. Пользуясь нашим покровительством, господа подрядчики задирают цены до заоблачных высот, разрушая и без того чахлую экономику империи. И это, конечно, из-за нас, из-за нашей цензурной политики газеты опустились до уровня бульварных листков, развлекающих читателя хроникой скандалов и дозированных непристойностей. Вот до каких обвинений, до наглых нападок на верное императору сословие чиновников дошёл этот вконец распустившийся адвокат!
- Господи, помилуй! – испуганно воскликнул Дихгоф. – И впрямь, конец света близок. Но мы-то чем можем помочь, господин Бубер? В нашем-то тяжелом положении…
- Да, без виселицы система управления идёт в разнос, - резюмировал господин прокурор. – Адвокаты витийствуют, а народ, лишённый страха, слова их обращает в действие. Начинает разбираться со страной по своему. Но!
Бубер поднял палец вверх. Потом, опустив, ткнул пальцем в сторону закрывавшего пол ковра.
- Мы найдём, чем ответить! Гильотина, Дихгоф! В письме Министерства вы найдете подробные инструкции. Вам и вашим подчинённым оказано особое доверие. В вашей тюрьме будет установлена единственная в империи гильотина. Эта штука понадёжней вашей дряхлой виселицы и, уж поверьте мне, она поможет вам переработать в навоз всех врагов империи. Знаете, что это такое?
Дихгоф засопел смущённо.
- Это когда топором? – и он слегка ударил себя по шее ребром ладони.
- Лезвием, - поправил его прокурор Бубер. – Тяжёлое лезвие скользит по направляющим и отсекает преступнику голову. Быстро и надёжно. Оружие революции против революции. Клин, так сказать, клином…
- Но, признаться, - осторожно заметил Дихгоф, - мы пока не работали с такими устройствами. Наш Кровец, конечно старательный малый… Кровец, кофе! Но он не знаком…
- К письму прилагается чертёж, - ответил прокурор. – Научитесь, ничего сложного. Через два дня к вам приедут сборщики, они же выберут подходящее помещение. Нужен ровный пол и свободный сток для крови… Крови будет много!
Бубер зажмурился.
- Заткнёшься тогда, Зраднер!
Господин начальник тюрьмы самолично изучал письмо с инструкциями Министерства и прилагаемые к письму чертежи устройства под названием «гильотина».
Потратил он на это два дня, которые провёл практически безвылазно в своём кабинете, прерывая уединение лишь на время положенного каждому служащему тюрьмы ночного отдыха, а так же на отправление естественных надобностей, от отправления коих не освобождён даже начальник тюрьмы.
«Вникает» уважительно думал Кровец.
Самого же палача обуревали чувства сильные и противоречивые.
С одной стороны, было несказанно радостно от того, что тюрьму не закроют, его не уволят, не лишат жалованья и казённой квартиры.
И не придётся возвращаться в деревню, к дремучей родне (своей или жены – безразлично, она с обеих сторон равно дремучая и глубоко вросшая корнями в лишающий последних остатков рассудка и самоуважения сельский быт).
«Не поеду к навозникам!» успокаивал и подбадривал себя Кровец. «Ей-богу, не поеду! И то верно: на одном поезде и трёх телегах туда добираться. А разве они могут общаться с уважаемым человеком, который в мундире тюремного ведомства ходит? У них это… никакого политесу или там представления об этой…»
Слово «субординация» он слушал не раз, и даже представлял, о чём идёт речь, но произнести ни разу не смог.
Даже мысленно.
С другой же стороны охватывало и беспокойство.
«Господину начальнику-то полегче моего, он образованный. Ему, небось, и в гимназии объяснили, что такое гиль… Как её? А мне-то каково?»
Никаких представлений о гильотине он не имел.
А работать на ней (в этом Кровец не сомневался) предстояло ему.
На третий день господин Дихгоф, с лицом помятым и серым под стать мундиру, с трудом, пошатываясь и прихватывая пальцами стенку, выбрался из кабинета и поманил слабым взмахом ладони кстати оказавшегося рядом охранника Миклуша.
- Передай Кровцу, - шепнул господин начальник и сунул попятившемуся было от неожиданности охраннику ворох бумаг. – Это по его части… Я, признаться, только с первым рисунком и разобрался. Лезвие там косое, как и в учебнике по истории было нарисовано!
Кровец и первый рисунок не осилил. Но лезвие разглядел.
Выглядело всё грозно и солидно.
«Придумают же!» сказал сам себе Кровец.
Мастера из столицы приехали через неделю.
Было их двое: один постарше, седоусый, долговязый, с бровями густыми и взглядом хмурым; второй – помоложе, и сильно помоложе, лет двадцати не больше, худой и сгорбленный, с чёрными, быстрыми, по мышиному суматошными глазами.
Подходящие помещения показывал им Кровец.
Внутренний двор, где под навесом доживали век останки виселицы, мастеровые отвергли сразу.
«Техника!» уважительно произнёс старший и поднял палец к небу.
«В помещении должна» добавил младший и зыркнул глазками.
«За малым глаз да глаз» отметил опытный по уголовной части Кровец. «Скрадёт ещё чего…»
И на всякий случай хлопал ладонями по карманам мундира каждые пять минут на протяжении всего осмотра.
Мастеровые остановили свой выбор на корпусе «Зет», самом дальнем.
«И колодец недалеко» отметил старший. «вам воды много понадобится».
Младший стукнул себя ребром ладони по шее и дурашливо хихикнул.
«Высечь бы тебя!» мысленно ответил ему Кровец.
Несерьёзного отношения к работе он не терпел.
В помощь мастеровым отрядили десяток охранников из свободных смен, а для тяжёлых работ – восемь заключённых, из числа уголовников с надеждой на помилование.
Политическим и прочим отпетым смутьянам столь важную и ответственную работу не доверяли… да они ведь и поломку какую учинить в состоянии, эти умники! С уголовными, народом не шибко образованным, опасений таких не возникало.
Да и конвой на что?
Работа закипела.
За три дня помещения в корпусе очистили от мусора (и кто умудрился на закрытой тюремной территории самой разной всячины в закрытый каменный мешок натащить?)
От колодца по деревянному желобу протянули водопровод, вода из которого наполняла бак, установленный на чердаке, прямо над самой камерой, выбранной для экзекуций.
В полу камеры сделали сток.
Поскольку самотёком вода на такую высоту, конечно, не пошла бы, пришлось мастеровым за неделю соорудить из подручных материалов два ручных насоса: один возле колодца, и один в самом корпусе.
Работать на водокачки определили двух уголовных: Рульку и Кирпичного, пообещав им за честный и самоотверженный труд ходатайство самого господина начальника тюрьмы о помиловании и переводе в корпус «Б», отведённый для отбывающих пожизненное заключение.
А там, если совеем хорошо себя зарекомендуют…
Два будущих пожизненника на радостях так лихо накачали воды в бак, что полилось через край, прежде времени омыв камеру экзекуций.
После ремонта дошло дело и до сборки загадочной машины.
Мастеровые, завесив вход в камеру куском раздобытого ими где-то по случаю старого, затёртого до просветов ковра, возились с деревянными брусьями, металлическими рейками, винтами, болтами и самым причудливым образом изогнутыми железяками, назначения которых никто из сотрудников тюрьмы (включая и Кровца), убей Бог, не понимал.
Потом всех оглушил грохот молотков, истеричные взвизги пилы, звон и долгий скрип металла. Потом раздался вопль младшего мастерового и наставительная, хоть и крайне грубая, ругань старшего.
А потом всё стихло.
Младший высунулся в коридор и обвёл затуманившимся взглядом смущённо замерших охранников.
- Кто на штуковине работать будет? – уточнил он.
«Как-то я им и представиться забыл» отчего-то с чувством вины подумал Кровец.
Охранник расступились и показали пальцами на Кровца.
- Поди-ка, - сказал младший.
Кровец, стараясь унять внешние признаки волнения и сохранить вид важный и преисполненный достоинства, переступил порог камеры.
Старший, завидев Кровца, бросил скрученную из газеты цигарку в непросохшую лужу.
- Ты? – уточнил он.
- Исполнитель предписаний Кровец, - представился Кровец. – Экзекутор пятого разряда.
- Маловат разряд-то, - с сомнением произнёс старший. – По инструкции не меньше шестого требуется. Справишься?
- С виселицей справлялся, - попытался отстоять профессиональную репутацию Кровец.
Младший хихикнул.
- Видели, как справлялся, - сурово ответил старший. – Все твои художества под навесом видели. Знаешь, сколько эта штука стоит?
И он кивнул на нечто, закрытое чехлом из мешковины.
Кровец пожал плечами.
- Почти две тысячи геллеров! – со значением произнёс старший.
- Мы постараемся, - ответил несколько осипшим голосом Кровец, и поправил козырёк фуражки.
Старший глянул на него хмуро и туманно.
Потом, дав знак младшему, снял мешковину.
И Кровец в первый раз в жизни увидел…
«Вона как, курица тебя заклюй!» восхищённо подумал он.
Стройная, деревянно-металлическая, с хищно блистающим скошенным лезвием, с паучьим разбросом кожаных ремней, с затаённой безжалостностью и геометрической точностью линий – казалась она поражённому Кровцу изделием потрясающей красоты, пришедшим из нездешнего, возможно даже эфирного мира, чтобы наполнить жизнь его высшим светом и смыслом.
Ему показалось на миг, что в тускло освещённой масляными лампами камере, куда с трудом пробивались с улицы сквозь деревянные ставки чахоточно-тонкие лучи, стало светлее и воздух из пыльного сделался прозрачным.
- Смотри сюда, - сказал старший.
И дёрнул за рычаг.
Лезвие с еле слышным звоном быстро скользнуло вниз и тонким надрезом рассекло закреплённую в деревянной рамке худую и продолговатую тыкву.
Тыква с лёгким чавканьем распалась на половинки.
- Это шея была, - вставил фразу младший.
- Понял, - сиплым шёпотом ответил Кровец.
- Здесь кровищи будет много, - пояснил старший. – Потому, чуть отойдя в сторону…
Он потянул за ручку металлический стержень.
Деревянный короб отошёл от потолка и хлынувшая через него потоком вода щедро омыла смертоносную машины, заодно омочив и форменные сапоги замешкавшегося Кровца.
Старший, подтолкнув стержень, вернул короб на место.
И сказал:
- В исходное положение…
После чего, прошлёпав по луже, подошёл к гильотине и потянул за верёвку, вытаскивая лезвие по направляющим вверх.
- Если экзекуций много – работать лучше в перчатках. К концу дня машину надо дополнительно мыть и просушивать. Корзины менять и постоянно насыпать в них опилки. С голов тоже кровь стекает. Смазывать металлические части регулярно, верёвку менять не реже одного раза в месяц. Всё понятно?
Кровец кивнул.
А потом, откашлявшись, предложил несмело:
- Может, господа, ко мне пойдём? Посидим, сливовицы выпьем. Вы ещё чего интересного расскажете. Мы же люди простые, сразу всё не понимаем. Жена поросёнка зажарила…
- Это можно, - согласился старший.
Ещё неделя ушла на то, чтобы уговорить священника, отца Алоиза, напутствовать казнимых на столь необычном для здешних мест устройстве.
«Не желаю участвовать, пусть даже и косвенно, в ваших беспутствах!» категорически заявил отец Алоиз.
Собственно, он ничего не имел против виселицы, считая этот метод казни вполне традиционным, добропорядочным и вполне соответствующим духу Евангелия.
Иуда, по преданию, повесился, так отчего же тем же способом не отправлять на Божий суд современных иуд, предающих Бога, церковь и доброго нашего императора?
Но изобретение доктора Гийотена вызывало у отца Алоиза сильнейшую антипатию как необычным видом своим, так и наличием мудрёных устройств («мудрость мира сего есть безумие перед Господом!» неустанно повторял священник), а так же и весьма подозрительным, якобинско-революционным происхождением.
Однако, откликнувшись на мольбы Кровца («нельзя же совеем без напутствия, отче!») отец Алоиз смягчился и согласился не оставлять без попечения несчастных, отправляемых на свидание со стальной дамой.
- Но грех применения подобного орудия – на вас, Кровец! – строго заметил священник.
Кровец вовремя вспомнил о великой силе исповеди и всепрощающей любви Божией, и кротко улыбнулся в ответ.
- Начинаем, - сообщил он вечером жене, ополаскивая перед ужином руки.
Жена оставила в сторону кувшин и заботливо протёрла ему пальцы сероватым от вечного висения в пыльном углу рушником.
- И то хорошо! – сказала она. – Сколько тебе изводить себя? Как с работой плохо стало – так весь с лица спал. Я уж предложить хотела на сенокос пойти. Помог бы куму…
- Некогда теперь! – отрезал Кровец с самым важным и значительным видом.
- А у кума как корова отелилась, так жрать стала в три горла, - добавила неугомонная женщина.
- Знать не желаю, - повторно отрезал Кровец.
И сел за стол.
Почуяв пряный запах гуляша, зажмурился от удовольствия.
Кровец очень любил гуляш.
Жизнь стала праздником.
Казни шли бодро, одна за другой.
Кровцу теперь полагалось два помощника. Господа в Министерстве резонно полагали, что палачу в одиночку укладывать бьющегося и сопротивляющегося своей участи заключенного на ложе смерти будет утомительно и неудобно. Потому и заранее предусмотрели в обновлённом расписании должностей должности помощников экзекутора.
В помощники отрядили Ганушку и Липована.
- Отчего самых тупых? – уточнил Кровец. – На виселице один помощник был, и тот постоянно менялся. И ребята всё толковые были, расторопные. А эти болваны из карпатской деревни ничего сложнее телеги в жизни не видели.
- У дураков психика крепкая, - пояснил старший надзиратель Курла. – Так господин тюремный доктор сказал самому господину Дихгофу, когда господин Дихгоф его спросил, кого бы лучше в помощники тебе назначить. У тебя, небось, теперь пострашней будет, чем на виселице. Кровь, позвонки, такое всё…
Курла перекрестился и скривил физиономию.
- А работа немудрёная. Ты им один раз хорошенько объясни, куда класть да как прижимать. Они поймут. Ганушка вот на скотобойне одно лето работал. Липован, говорят, в отместку соседу у того цыплят давил… Ничего, справятся!
Оказалось всё не так страшно.
Первый приговорённый, заворожённый красотой столичной техники, и вовсе безропотно и безо всякого сопротивления лёг на доску и позволил себя привязать.
Ещё и хихикнул при этом, полагая, должно быть, что придумали господа тюремные какую-то занятную, хоть и очевидно глупую, не иначе как из самой столицы завезённую игру.
И только когда Кровец неуверенно взялся за рычаг, почуял приговорённый недоброе и улыбаться перестал.
Помер же быстро.
Нож рассёк шею удивительно легко, быстро и практически беззвучно.
Как ту худую тыкву.
А вот крови и впрямь оказалось много.
Просто удивительно, насколько её много в человеческом теле и под каким сильным давлением она там находиться!
Ну, так на то и бак на чердаке есть.
И потянулись будни.
Для Кровца - весьма приятные.
Казней становилось всё больше.
Империя бурлила, восстания, волнения, бунты и мятежи шли один за другим дурным косяком, так что конца им пока не предвиделось.
Мадам Гильотина исправно рубила головы крестьянам и студентам, мастеровым и чернорабочим, офицерам из мятежных полков и городским умникам из охваченных беспорядками университетов.
Попался раз даже один сельский писарь, приговорённый к казни за нападение на почтового чиновника.
«Не век же писарем жить!» кричал писарь, когда укладывали его на доску.
С полыхающих национальных окраин измотанной пожарами империи присылали в Пангац списочно приговорённых к смерти борцов за очередную национальную автономию.
Этих встречал лично господин Дихгоф.
«И тебе свободы захотелось?» спрашивал он новоприбывшего.
Новоприбывшие то отмалчивались, то бурчали что-то невразумительное, а то выкрикивали что-то явно обидное на непонятных своих языках.
«А вот тебе!» продолжал господин Дихгоф и лупил их тростью.
Но был при этом нерадостен.
Ожесточение было. Тревога.
Радости не было никакой.
Кровец же, втянувшись в работу, стал светел, дружелюбен, лёгок в общении и приятен в беседе. Будущее теперь казалось ему вполне обеспеченным.
По причине революции и обострения борьбы за спокойствие трона жалование ему увеличили, и дополнительно утвердили прибавку на оплату дров для готовки и (в зимнюю пору) для отопления.
Каждый вечер приходил Кровец домой, насвистывая весёлые мелодии сельских песен.
И приготовил уже горшочек, чтобы складывать в него геллеры, излишек которых (в чём Кровец был совершенно уверен) вскоре должен был непременно образоваться.
И вот в один день, далеко не прекрасный, гильотина скрипнула.
В самый момент казни, когда приговорённый, вполне подготовленный к неизбежному кричал что-то грубое в адрес имперской полиции и какого-то Якуба, который всех продал и скоро сдохнет, гильтина, сбрасывая нож, отчётливо скрипнула.
Пожалуй, никто кроме Кровца звука этого не услышал.
Ганушка и Липовец были не только туповаты, но и тугоухи. Господин тюремный врач на казни в тот день не присутствовал (врач вообще часто подписывал необходимые бумаги прямо у себя на квартире, не удостаивая своими визитами корпус «Зет»).
Казнимый и вовсе слушал лишь себя, совершенно не обращая внимания на посторонние шумы.
Скрип услышал Кровец.
И испугался.
Так сильно испугался, что не мог унять дрожь в руках, когда затаскивал нож на предусмотренную конструкцией и соответствующими инструкциями высоту.
Испуг этот, кремнем по душе ударив, искрою высек Мысль.
Мысль была…
Нет, невозможно!
Поначалу Кровец поверить не мог, что он додумался до ТАКОГО!
Но ведь, похоже, додумался.
Ведь, рассуждая логически, если не додумался, так и Мысль бы к нему не пришла.
Или пришла бы, но не к нему, а к кому-нибудь другому.
Вот, к примеру, к столичному нигилисту Чалинскому из тридцать второй камеры, которые, верно, за такие вот или подобные мысли аккурат месяц назад свой приговор и получил, в ожидании исполнения которого теперь и коротает время в Пангаце.
К Чалинскому что-то подобное вполне могло придти в голову.
Могло придти и что похуже.
Но Кровцу? В голову?
Мысль??
О, нет…
Разве только…
Разве только невероятной силы переживания, испытанные Кровцом после безвременной гибели виселицы, могли оставить в душе его такой глубокий, до конца не измеренный и не осознанный им след, который, в свою очередь, каким-то удивительным и непонятным образом исказил тонкие эфирные слои кравцовой души, доведя их до полного смешения и самой причудливой деформации.
И вот родилась Мысль, и что с ней теперь делать?
Начальству же не отнесёшь.
И даже с женой не поделишься.
Ибо Мысль была: «А не слишком ли много мы казним?»
Не судите строго бедного Кровца.
Легко ли быть безработным?
Особенно простому, не слишком образованному мужику.
В стране, охваченной бунтами.
Кровец сделался хмур и неразговорчив.
Прежняя весёлость исчезла безо всякого следа.
Будто её и не было.
Впрочем, никто из тюремных сотоварищей внимания на это не обратил.
Да и кто обращает внимание на переживания палачей?
Многие полагают их людьми грубыми и бесчувственными, с самой наипростой, и даже примитивной организацией души, руководствуясь при том той мыслью, что люди с душой чувствительной и тонкой грубого палаческого ремесла не выдержат, а люди сентиментальные и склонные к сочувствия так и вовсе с ума сойдут и будут, запершись в уединённом месте, рыдать и биться головою о разнообразные твёрдые поверхности.
А есть между тем среди палачей люди разные.
Попадаются даже и совсем нежные и сентиментальные, которые, однако, и заходясь в рыданиях продолжают исполнять свой долг на благо Родины.
А есть и такие как Кровец, к рыданиям не склонные, но честные и трудолюбивые.
А так же хозяйственные и заботящиеся о благе семьи.
Но как далеки бывают люди, пусть даже и близкие, от их переживаний, как далеки!
- Она сломается! – убеждённо сказал Кровец жене.
В вечерний час они сидели на скамейке возле калитки и смотрели на заходящее за липы солнце.
- Чего? – не поняла супруга.
Кровец ребром правой ладони резко ударил по левой.
И крякнул.
- Чего это ты? – занервничала мало знакомая с современной техникой супруга.
- Гильотина, - прошептал Кровец.
И добавил:
- Как пить дать!
Супруга к угрозе отнеслась на удивление равнодушно.
- И завязывал бы с тюремными делами. Вон что вокруг творится! Говорят, у императора уже пол-армии разбежалось…
Кровец мягко, но внушительно хлопнул супругу по затылку.
Не болтай, чего не знаешь! Не болтай!
- Припомнят тебе, в случае чего, - плаксивым голосом заговорила супруга.
И добавила:
- Поехали бы в деревню. Там бы отсиделись до поры… как успокоится…
- Ты, Казя, дура, - со всей возможной нежностью и убедительностью произнёс Кровец. – И чего мне в деревне той делать? Я же мастер, Казя! Мастер! Курам головы рубить?
- А хоть бы и им, - ответила супруга. – Куры добрые, зла не помнят. Не то, что эти… бородатые с ружьями…
И супруга испуганно перекрестилась.
Вечер пошёл насмарку.
А Кровец решил действовать.
Начал он с того, что подошёл как-то (будто вовсе невзначай) к убиравшему тюремный двор смышлёному малому Гонте, которого, хоть и упекли сюда за разбой, но к скорой казни явно не готовили.
Гонта выбран им был потому, что, под конвоем и в обнимку с метлой обходя все заколки тюрьмы, проходил регулярно и мимо камер смертников, и, пользуясь некоторыми поблажками со стороны надзирателей, имел возможность побеседовать (пусть и через железную дверь) с заключёнными.
- Проничеку и Кухте привет от адвоката, - с самым простецким видом заявил Кровец. – Пусть жалобы пишут на имя городского судьи, напирают на то, что воровство было, а насилия не было. У них свидетель есть, Петер-мельник. Почему они о нём забыли упомянуть? Пусть обязательно так напишут, им смягчение выйдет…
И, оглядевшись по сторонам, сунул слегка оторопевшему парню завёрнутые в обрывок листа папиросы.
Папиросы, верьте или нет, купил он в городской лавке тем же утром, вычтя сам у себя четверть геллера из жалования.
Дорогие, господские, с золотым ободком на мундштуке – они должны были произвести впечатление на Гонту.
И произвели.
Гонта, решив, что этот самый хитрюга-адвокат (должно быть, от кого-то на воле получив изрядный куш), подкупил не кого-нибудь, а самого господина палача (и как он к нему подход нашёл, хотелось бы знать? впрочем, деньги – они всё могут),
Стало быть, наметилась золотая жила.
Не будет же он подкупать палача для разового дела?
А кому как не ему, сообразительному и компанейскому парню Гонте стать верным (в разумных, конечно, пределах) помощником в благородном и доходном деле спасения узников от слишком уж скорой казни?
Тем же вечером рекомендации мифического адвоката (точнее, господина палача) были доведены до упомянутых смертников.
Смертники, понятия, конечно, не имея, что пользуются советами тайком покопавшегося в их делах Кровца (бутылочка ликёра начальнику канцелярии) застрочили жалобы.
Через три недели суд принял решение: казни отложить на время проверки новых обстоятельств дела.
Встречи Кровца и Гонты стали регулярными.
Число жалоб, поступающих из Пангаца на имя городского судьи, значительно увеличилось и каждый раз в делах открывались всё новые и новые обстоятельства, которые решительно не позволяли немедленно привести приговор в исполнение.
Дело дошло до того, что в течение пяти дней гильотина простаивала без дела.
Кровец же, с головой втянувшись в опасное своё занятие, стал нести ощутимые финансовые потери.
Пришлось отказаться от баранины.
Потом настала очередь свинины.
Из радующей сердце снеди на домашнем столе осталась только курица.
Да и ту жене приходилось покупать с жестоким торгом, каждый раз доказывая лавочнику, что заморыш с посиневшими лапами никак не может стоить как графский каплун.
По случаю революции и недорода цены подняли.
Обнаглевший от осознания собственной значительности Гонта стал вместо папирос требовать вина во фляге и наличных.
Защита гильотины обходилась всё дороже и дороже.
Жена ворчала и ругала на чём свет стоит дурноголовых господ начальников, которые в такое-то тяжёлое время решили сократить жалованье мужу да ещё и в городскую лавку его каждый день посылать, будто лакея какого.
А Кровец поначалу радовался выдумке и, гордый собственной незаурядной сообразительностью, поглаживал украдкой острые бока гильотины, приговаривая всякие нежности.
Но, по мере роста аппетитов Гонты, загрустил.
А, представив грядущие капустно-морковные ужины, и вовсе затосковал.
От жалования оставалась едва ли треть.
Можно было бы, конечно, и остановиться.
Даже нужно было бы остановиться.
В конце концов, шло разбирательство уже по сорока пяти жалобам и, учитывая крайнюю загруженность городского судьи и введение полевых трибуналов (жертвы коих в Пангац уж точно не попадали), за сохранность гильотины в ближайшие три месяца можно было бы не волноваться.
Но подвело Кровца его стремление непременно доводить раз начатое дело до конца.
А концом дела, по мнению Кровца, должна бал стать отсрочка, дарованная Чалинскому.
Опытным взглядом палача определили Кровец, что шею имел Чалинский неудобную, очень толстую, с крепким позвонком.
Конечно, гильотине всякие шеи вполне доступны, но зачем же нагрузку увеличивать?
Так рассуждал Кровец.
И решил подтолкнуть Чалинского к написанию жалобы.
Дело же Чалинского, однако, оказалось чрезвычайно сложным.
Политический, одним словом.
В деле Чалинского (две бутылки лик1ра в канцелярию) было столько мудрёных слов, о которые язык можно было сломать, что уже на пятой странице Кровец чтение забросил.
«Фракция…» бормотал он себе под нос, выходя из канцелярии. «Социалисты… либерализм…»
Незнакомые слова цирковыми обезьянками метались в голове, перескакивая от лба к затылку и обратно, верещали отчаянно на непонятном, обезьяньем языке и забивали бесповоротно естественный ход мыслей.
«А вот пойду к нему и скажу!» решил Кровец.
Пойти напрямую к заключённому – глупо и опасно.
Ещё час назад Кровец это понимал.
Но чтение политического дела сделало его бесстрашным и скудоумным.
К тому Кровец понимал (хватило и остатка благоразумия), что Чалинский – из благородных, и простому уголовному мужику Гонте не поверит.
И не поверит и в байку по непонятно откуда взявшегося адвоката.
А начнёт расспрашивать – так Гонта никаких объяснений, кроме пустого мычания, из себя не выдавит.
Кишка тонка у Гонты, чтобы образованному человеку объяснения давать.
Да и сэкономить хотелось… если уж совсем честно…
Конечно, всё пошло наперекосяк.
Нет, надзиратель его пропустил. Хоть, честно говоря, права не имел.
Впечатлила его выдумка о том, будто у господина палача есть личное послание господина прокурора для…
- Кого? – переспросил надзиратель, водя пальцем по списку.
- Чалинского, - с некоторым вызовом ответил Кровец.
- Есть такой, - отметил надзиратель. – Лично?
Кровец уверенно кивнул.
- Ну, тогда…
И его пропустили.
Однако, заходя уже в коридор, ведущий к камерам, услышал Кровец обрывок фразы: «…в первый раз такое… надо бы проверить…»
И понял, что с рук ему этот визит не сойдёт.
Но всё же решил идти до конца.
- Чалинский! – позвал он, прислонившись к двери и приложившись лицом к забранному решёткой дверному окошечку.
В полутьме камеры что-то заворочалось.
«Слышит меня, слышит» удовлетворённо отметил Кровец.
- Слушай внимательно, политический… Твой срок выходит, дня три осталось, не больше. Шея твоя… Тьфу, не о том! Ты это… Давай срочно прошение пиши. Срочно требуй перо и бумагу. Прямо на имя императора. У него…
Кровец на мгновение зажмурился и отчаянно соврал.
- День рождения скоро! Всем политическим прощение будет, я своими ушами слышал. Клянусь! Пока прошение по инстанциям ходить будет, тебя казнить не посмеют. Ты из видных, твоё дело у прокурора под личным надзором. Ежели такой да к самому императору с прошением о милости – казнить не посмеют. До самого высшего решения! Слышь, чего говорю?
В глубине камеры воцарилась тишина…
«Проняло?»
…почти мгновенно сменившаяся сипением, хрипом, а потом – отрывистым воплем, перешедшим в отборную ругань.
- Провокатор! – покрыл его незнакомым, но явно обидным словом приговорённый. – Мерзавец! Иуда! Кто тебя подослал? Кто надоумил? Сломать меня хотите перед казнью? Чтобы я опозорил, запятнал себя в последние дни своей жизни, ползая на брюхе перед тираном? Умоляя о милости? Не выйдет! Отродье тюремное! Вампир! Брут не будет просить сатрапа о милости, так и передай своим хозяевам. Битва за грядущую свободу начнётся с того, что!..
«Балда» резюмировал Кровец.
Чалинский же, зайдясь в истерике, выдвинулся из глубины камеры к двери, и стал яростно плевать в серое пятно окошка.
Отражаясь от кирпичных стен, запрягало, заметалось по коридору барабанящее и цокающее эхо. На крик узника сбегались надзиратели.
«Как есть балда, дубина этакая!» с горечью подумал Кровец.
И побрёл к выходу, отчётливо понимая, что без последствий этот визит не пройдёт.
Последствия пришли с некоторым запозданием.
Через четыре дня.
На казнь привели Чалинского.
Господин революционер был успокоен, умыт и переодет в чистое.
От исповеди он отказался, но в целом вёл себя тихо и пристойно.
Ганушка и Липован привязали его к доске и задвинули, как полагается, шеей под нож.
Да только вышел конфуз.
Снова раздался пугавший уже Кровца скрип (особенно длинный и противный на этот раз), от держателя отлетела проржавевшая защёлка, и перешедший было в падение нож сначала повис на натянувшейся верёвке, а потом, перекосившись, застрял в разбухших от постоянной влажности деревянных направляющих.
Заметавшийся возле помирающей гильотины Ганнушкв завопил: «да это мы исправим!»
И, подпрыгнув, всей своей дурной силищей надавил на лезвие.
- Остановись, дурень, - только и успел сказать Кровец.
Сказать тихо, как будто самому себе.
Тут уж скрипа не было.
Раздался треск, грохот – и вся верхняя часть гильтины, с ножом, направляющими, защёлкой и держателями рухнула на пол.
В остолбенении, стылом молчании и подступающем горе смотрел тюремный народ на обратившуюся в руины кормилицу.
И лишь минуты через две раздался тихий плач.
Это рыдал выбитый событиями из колеи странно выживший бунтовщик Чалинский.
- Сушить надо было вовремя, - сказал Липован. – Каждый раз… От сырости это!
И, покачав головой, повторил убеждённо:
- От сырости!
- Невероятно! До меня и раньше доходили слухи!..
В тот же день Кровец был вызван к господину начальнику тюрьмы.
Господин Дигхоф был взъерошен, красноглаз и ходил из угла в угол строго по одной линии, нехорошо поигрывая тростью.
- Как вы могли, Кровец? Как?!
Палач пожал плечами и, постаравшись придать голосу надлежащую уверенность, ответил:
- Я как лучше хотел. Чтобы всем лучше…
Дальнейшие объяснения были прерваны криком:
- Молчать!!
Дихгоф, остановившись на миг, топнул ногой и кончиком трости ударили по краю стола.
- Не смейте так говорить! Вы…
И – снова в путь. От угла к углу.
«Вот мельтешит» подумал Кровец.
- Революционеры тоже говорят, что хотят как лучше. Для всех! У них научились, Кровец? У них? О, эта всепроникающая революционная зараза! Эта тюрьма – лепрозорий. И заражаются, похоже, даже те, кто должен был бы отсекать заразу от общества, а не беречь её от целительной экзекуции. До меня и раньше доходили слухи о вашем неподобающем поведении, Кровец. Но я, по природной доброте и доверчивости своей, не придавал им значения. Я не мог им поверить! Не мог и представить, что палач, кристально честный служака с безупречной доселе репутацией, предав императора и изменив своему долгу, пойдёт на сговор с преступниками будет всеми силами ограждать их от заслуженного наказания. Более того…
Дихгоф подбежал к столу и, грохнув ящиком, высыпал целую пачку густо исписанных листов.
- Вот сколько людей успели вас изобличить, Кровец! Вот…
Он затряс листком.
- Показания вашего сообщника Гонты! Его преступные разговоры были услышаны честными людьми и доведены до моего сведения. Я медлил, не хватало лишь одного звена. И этим звеном явилось сегодняшнее происшествие. Да! Гонту сегодня же припёрли к стенке, и он сразу дал показания. Мерзавец неграмотен, но с его слов записано всё верно. О чём и свидетельствует крестик в правом нижнем углу. А вот…
Он выхватил ещё один лист.
- Письменный протест Чалинского. Накануне казни он обвинил нас в том, что мы, якобы, подсылаем к нему негодяев, которые уговаривают его припасть к ногам императора и просить о милости. С целью отсрочить казнь!
«Как есть балда этот революционер» окончательно убедился Кровец.
- Судя по показаниям надзирателей…
Дихгоф затряс целой пачкой листков.
- …этот негодяй – вы. Вы, Кровец! Не смейте оправдываться! Я не поверю ни одному вашему слову! Вы сознательно и коварно пытались внести сумятицу в отлаженную мной работу тюрьмы, вы пытались изнутри подточить и разрушить здание правосудия. Но за вами следили, Кровец, и, почувствовав, что расплата близка, вы решились на отчаянный шаг…
Ошарашенный Кровец замахал руками и бросил отчаянное:
- Неправда! Я люблю императора! Я люблю своё дело! Всегда… Господом Богом!
Перекрестился, но жест этот на Дихгофа впечатления не произвёл.
- …вывел из строя орудие казни! О чём есть показания вашего помощника Ганнушки. Вас выведут на чистую воду, Кровец! Сейчас же вас возьмут под стражу и, уж поверьте мне, господину прокурору вы расскажет всё. А теперь…
Он показал пальцем на дверь.
- Ступайте прочь. Вам запрещено покидать тюрьму, так что – не далее двора. И не вздумайте натворить ещё что-нибудь, господин коварный бунтовщик! Считайте, что вы уже под следствием.
На ногах неживых, с головой в тумане вышел в тюремный двор бывший палач.
Посреди двора, окружённый надзирателями, стоял розовый и безмерно счастливый Чалинский и, заливаясь истерично-визгливым смехом, всё рассказывал и рассказывал служивым историю о своём счастливом спасении.
- Он! – завопил Чалинский, показывая пальцем на подобравшегося ближе Кровца. – Вот спаситель, не шучу! Парадокс, господа! Палач – и вдруг спаситель! Каково это вам?
Надзиратели, заметив Кровца, перестали улыбаться и, как-то все сразу и одновременно, задвигались в стороны, образуя мёртвое пространство.
Кровец же, посопев немного, ухмыльнулся криво – и вдруг врезал Чалинскому со всей своей дурной деревенской силы.
Несостоявшийся мученик революции упал на пыльный булыжник, и завопил пронзительно, закрыв быстро краснеющими пальцами лицо.
А Кровец, отпихивая локтями хватающих его со всех сторон бывших сотоварищей, лупил и лупил сапогами завывавшего под ударами Чалинского, медленно и без всякой злобы приговаривая:
- Наперекосяк у вас всё. И подохнуть нормально не можете. И подохнуть…
Александр Уваров © 2012
Отредактировано: 22.07.2019