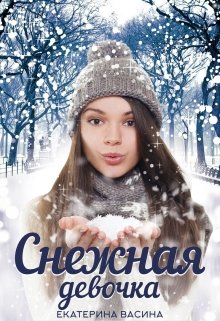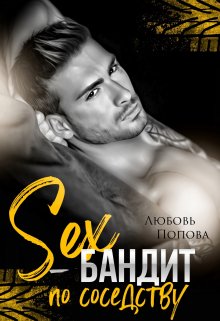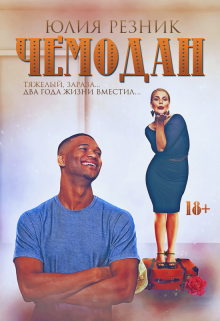Графомания
Графомания
Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела —
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...
Ф. Тютчев
Она покупает конверты, бумагу и клейкие гелевые авторучки; она садится на пол у письменного стола, скрещивает по-турецки ноги и пишет.
Ей так удобно.
Она – ловкая и гибкая, с детства.
И ей хорошо здесь, на полу, у письменного стола.
Она хотела бы залезть на потолок и писать там: возможно, это придало бы ее перу вдохновения, стройную отточенность фраз и безаппеляционную убедительность мыслей.
Но она не умеет ходить по потолку, эта красивая темноволосая женщина с родимым пятном на левом плече.
Она иронически улыбается, курит, смотрит в пустой телевизор и пишет.
Красноречие Цицерона в ее коротких рубленых синтагмах.
Величие древних римских ораторов слышится в них.
Вся страсть души, все льстивое женское лукавство, вся расчетливая наивность ее опыта в этих письмах.
Письмах?
Ну конечно же. Что же еще может писать такая красивая женщина, скусывая ногти и тихо чертыхаясь изошедшейся пасте?
Не бухгалтерские же бланки заполняет она.
Бухгалтерские бланки – это для отличниц, синих чулков и облезлых крыс; она-то никогда не была такой.
А светлая голова и любовь к трудным задачкам – еще не повод уходить в технички… Она всегда была скорее гуманитарием. Филологом… Графоманом…
Графоманом – ведь сколько можно писать эти идиотские письма в никуда, в самом-то деле.
Впрочем, адресат у них был. Вполне реальная личность с почтовым и электронным адресом, рабочим, домашним и мобильным телефоном.
Она не позвонит.
Она не отправит ни одного письма.
Она ведь гордая, эта темноволосая женщина с родимым пятном на левом плече.
Зачем?..
А просто так. Это ее исповедь. Ее лирический дневник. Ее мысли по поводу, если угодно.
Ее опиум для никого.
Как только не назовешь при желании дурацкую привычку записывать прошедшие дни.
«Ты знаешь, я все еще помню… Эту бледную озябшую розу, грязный вокзал, перрон, снег, какие-то люди, твои горячие руки… Я помню все четко и ясно, как если бы это все было вчера; так говорят старики, наверное, в самом деле старость».
Она аккуратно стряхивает пепел, почему-то дрожат пальцы, и ее мутит от этой пошлости.
Она боится старости. Постыдно и по-детски, в ужасе разглядывает в зеркале проступающие под глазами первые морщинки, ищет в волосах седину и, не найдя, успокаивается только до следующего вечера…
До письма.
«Ты оставил мне воспоминания, ты, как Бог, изгнавший из рая, это жестоко, в самом-то деле».
Она встает, прикуривает новую сигарету от старой, ей даже не хочется, но надо, надо, надо… Кому и зачем, это неважно, совсем не важно, сейчас главное не давать себе думать, не давать мыслям воли, как оголодавшему псу, рвущемуся с цепи.
Спокойно, говорит себе она.
Не нужно романтических терзаний, Клара.
И странно, но это действует.
На самом деле зовут ее не так.
Но кому какая разница?
Клара – значит «сияющая».
Это хорошее имя.
«Я помню до сих пор те бутерброды с сыром, что ты привез из дома для меня, я помню, как болела вечером голова, до слез, до истерики, но я не шла в постель: мне, как Румате, жалко было спать, пока ты рядом, я хотела быть с тобой, я хотела…
И черт побери, я знаю, ты тоже это помнишь».
Она тупо смотрит на испещренный черными значками клетчатый лист.
Ей и сейчас не хочется спать.
Надо завести себе мужчину.
Нужно отрешиться от прошлого, не цепляться за ушедшее, не махать белым платочком вслед давно ушедшему пароходу, успокоиться и взять себя в руки.
Да.
«Знаешь, я никогда не надеваю то синее платье, в котором была в нашу первую встречу. Это сентиментальность, знаю, но мне нестерпимо гадко всякое соприкосновение нашего общего «вчера» и только моего «сегодня».
Это отвращение почти физиологическое».
Она питается воспоминаниями, как дух или привидение.
Она задумывает составить из своих эпистолярных упражнений роман и вполне серьезно прикидывает, на какой гонорар может рассчитывать.
Она сосредоточенно анатомирует собственную душу, извлекая на свет божий все, что в ней было хрупкого и нежного, рассматривает с почти неприличной пристальностью; и под холодным инструментом анализа меркнет боль, тускнеет страсть, пелена равнодушия застилает все.
Наконец, после долгого перерыва она вновь оказывается здесь, на полу, у письменного стола. Она пишет как раньше, встарь.
«Я уже почти не помню твоего лица. Победа близка. Я так объелась воспоминаниями о тебе, что ты стал мне противен, как герой из заданной на дом книги, как «Евгений Онегин» в девятом классе, как, черт тебя дери, Печорин, как Раскольников какой-нибудь».
«Я остыла к тебе. Все воспоминания – как иссохшая на подоконнике моль, как плохой старый фильм: фальшивая игра, негодный режиссер, дилетант-оператор. Что красивого было в этой нелепой детской истории?»
Ей даже нравится втаптывать в грязь то, что было когда-то так дорого. Это освобождает от последних иллюзий.
Однажды, счастливая и спокойная, она возвращается домой.
Падает снег.
Чему-то рассеянно улыбается старуха из соседнего подъезда.
Сигают из-под ног черные кошки.
Но она-то не особенно суеверная.
У подъезда, как в ее предутренних грезах, как в кошмарах до холодного пота, он.
- Ты забыла наклеить марки, дорогая, - говорит он, улыбаясь, и в этой улыбке точно что-то зловещее. – Какая беспечность с твоей стороны!