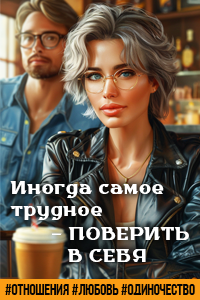Их было трое
Их было трое
Памяти моего прадеда Якова Евсеевича Доровских
Сентябрь радовал погожими днями. Осень словно готовилась, что Иван приедет домой. Потому и встречала, как могла, ласково, перед холодами отдавая последнее тепло. Иван приехал в отпуск вчера, времени у него не так много, и скоро нужно возвращаться на службу… но всё же он побудет дома, глотнёт наконец не чужого, а родного воздуха. Он прошёл войну, освобождал Европу. В редкие часы привалов родные места грезились во сне. И после таких снов было тоскливо и горько, тянуло домой.
Он открыл глаза, не узнавая поначалу, где находится. Иван потянулся, привстал с панцирной кровати. Окно знакомо и тепло манило тёмно-багряными красками, Иван встал и подошёл к нему. Домотканый половик приятно покалывал босые ноги. Неужели он дома, стоит в одних кальсонах, зевает и почёсывает живот, располосованный до груди алым в рубцах шрамом...
«Словно праздник какой», - подумал Иван о красках сентября. Не раз с того дня, как ушёл на фронт, видел он осень, наблюдал её в разных городах и посёлках, но только теперь ей радовался.
Он прыгнул на панцирную кровать, и замер, покачиваясь на пружинах. Ребячество, конечно, но ведь так часто представлял, что снова так сделает! Скрип, знакомый, домашний! Дотянулся до тумбочки, нащупал трофейный портсигар.
Иван будто помнил и не помнил день вчерашний, как прибыл на вокзал Воронежа, добрался до окраины и так удачно встретил полуторку, идущую в сторону Нижнедевицка. Его родное село Вязноватовка было по пути, недалеко от райцентра. И он ехал, узнавая по пути места. Выпрыгнув из кузова, прошёлся, размял ноги. С пригорка виднелась вся округа, и село с разбросанными по долине домиками лежало, как на картине. Если бы он умел рисовать, то писал бы картины только с этого места. Спуски, кусты душистой полыни, норки под камнями, а главное – белеющий, лежащий островками мел. Всё было знакомо…
Иван на кровати будто снова видел вчерашнюю дорогу. Как он, подняв сероватый, испещрённый белыми дырочками кусочек, вспоминал школьные годы. Когда-то в далёкой, будто не его жизни, в туманном детстве он был дежурным в классе, и должен был принести к уроку мел... В их местах мел был повсюду, так что в тёплое время казалось, будто все взгорки усыпаны снегом. Нигде ничего подобного он не встретил, только на родине. Вчера он кусал подобранный кусочек, разжёвывал и глотал, словно сахар.
Ему дали отпуск! Пусть только теперь, к осени, хотя просился после Победы. Но ведь дали же! Как он этого ждал!
Иван уходил из родных мест мальчишкой, а вернулся возмужавшим офицером. Он даже и не представлял, узнают ли его в форме, с орденами и медалями, когда пойдёт по Вязноватовке. Четыре маленьких звезды блестели на каждом погоне, в них играло солнце.
Кого-то вчера встретил на сельской улице, помнил мутно. Да, было.
И вот утро… Неужели он дома?
«Да дома!.. Но словно погостить приехал», - усмехнулся он, закурив. С тумбочки неряшливо свисали ремни портупеи, он посмотрел на кобуру… В ушах зашумело от первых затяжек. Его форму и сапоги жена с вечера очистила, постирала, развесила-разложила у печи-голландки. А вот личное оружие его валялось небрежно, как сбросил и повалился лицом на кровать.
Пуская струйки дыма к потолку, Иван оглядывался, будто узнавал и не узнавал родной дом. Самовар, чугунный утюг, ходики. На гвозде висит шапка, сшитая из старого солдатского мундира времён империалистической войны. Отец, видать, так и ходит в ней в непогоду... Всё знакомо, вроде бы, и незнакомо при этом. Даже подумалось, что может, приснилось, и сон вот-вот растает, отменит его прибытие. Сейчас проснётся он по-новому, не здесь, а на службе, и всё исчезнет…
«Да нет, не приснилось», - подумал Иван, и улыбнулся.
Он затушил окурок, потянулся, встал, покачиваясь, умыл лицо, шею, напился из рукомойника. Влага умягчила сушь во рту – вчера отец прямо с порога, обрадовавшись, предложил самогонки, и Иван на голодный желудок выпил железную кружку, налитую до краёв. Он велел отцу плеснуть ему именно так. Сказал гордо, что от стаканов давно отвык. Хотел перед ним показаться новым, заматерелым. А зачем? С недосыпа, с перевалок такое началось, что не остановить…
Помнил, как целовал жену, мать, они повисли на шее и пахли пьяняще, совсем уж близко и незнакомо одновременно, женским теплом и сладостью. Но лишь ступил сапогом в тепло, ноги стали ватными, и, закусив налитым в чашку варевом, что мать достала из печи, быстро уснул. Мутно помнил, как его несли. Мать с женой подняли шум: ругали отца, что, мол, сморил сына дурной сивухой. Но крики эти и осуждение были радостными, они кружились и таяли, как пух в жару. Стало душно, но и хорошо, радостно.
Да что же ещё было? Помнил, что жена Настя слегка толкала, гладила долго по плечу, волосам, говорила, что у них в доме событие важное намечается, и спать не будут, пусть шум и беготня его не тревожат. Знали бы, такого шума и взрывов он наслушался, когда засыпал в землянках и окопах!
Вроде бы корова отелиться должна, или что-то... Так и уснул, слушая причитания…
С рукомойника стучали по ведёрку капли. Холодная вода ободрила. И он по-армейски быстро, будто кто-то из командования мог войти, стал одеваться. Подошёл к зеркалу. По звёздам на погонах капитан, а по выправке генерал генералом! Но вот она, предательская седина, морщины на лице. И это… он? Да, он, крепкий, и всего то ему тридцать три года… По сравнению с отцом – парень ещё совсем.
Но выглядел он всё же лет на сорок пять. И понимал, что годы войны закрутились, как бешеное колесо, и каждый из них стоил десятилетия. Иван видел, как старели за считанные дни. Видел, как седели за ночь. И видел, как умирали на глазах, в секунду, за которую и не моргнёшь.
Нет, не об этом надо думать. Иван верил, что, приехав домой, родная земля поможет, научит, как уложить всё, что было, в какой-нибудь дальний сундук памяти, закрыть и выбросить ключ. Она сделает прошлое именно прошлым, как вёрсты пути, что остались позади и улеглись пылью дорог. Он отдохнёт, наберётся сил, и вернётся к службе из отпуска, новым, иным, сумевшим забыть. Но, стоя и глядя на себя, понимал: всё, что пережил, с ним навсегда. И родина, пусть тёплая и близкая, дом, жена, мать с отцом, ничем уже не помогут.
Он снова сел на кровать, радости и след простыл. Иван приехал домой не тем, кем был. Ушёл одним, а вернулся… Так что же было вчера. Вспомни!
И вспомнил!
После отцовской кружки и маминого вкусного варева его немного перемкнуло. Немного ли? Он достал пистолет, стал кричать. На миг перед глазами вспомнился бой, словно видел опять огонь, реку Одер, мельницу на другом берегу, в которой засел снайпер… И он, побледнев, сжал в красной ладони ТТ, дуло колебалось, порой опасно чернея на родных. Он опрокинул стул, побежал в атаку и упал в дверях, став непривычно мягким и слабым. Кто-то снял портупею, раздел, лёг рядом. Ведь он снова шёл в атаку, или нет?
Нет.
Всё вчера смешалось, чёрт возьми. Тот самый страшный его бой, от которого остался длинный рубец на животе… он возвращался кошмаром снова и снова, и не всегда во сне.
Теперь Иван наконец вспомнил, как перепугал близких. А вдруг и дома он теперь один только потому, что все спрятались? И никто не рад, что он вернулся… таким? Чужим… Лишь слегка сохранившим облик сына и мужа?..
Иван обхватил голову и замер…
Дверь скрипнула, вбежала жена. Он даже испугался её, и не поднимал лица:
- Вань! – сказала она. Но не испуганно, а с тихой просьбой. Может, он опять насочинял лишнего, и вчера вовсе не дурачился, не выхватывал пистолет? Не было, дай бог, ничего этого, больного и пьяного.
Он посмотрел на неё.
«Утро только, а Настя уж в мыле, как лошадь, - подумал он. – Работает, а он валяется, мается от чего-то, как барчук».
- Вань, ты как… спал? – она поправила мокрый платок. - Ты прости, тут у нас… Корова это… А соседка-сорока, болтать любит, вот на хвосте и принесла, будто соль в магазин привезут! То ли правда, то ли брешет! Мы соли, считай, всю войну не видели. И дома её нет и в помине, сам понимаешь. Хоть из пота своего выпаривай!
И она наклонилась, поцеловала. Как-то виновато прошептала:
- Если надумаешь по селу пройтись, может, раздобудешь? Нам бы соли сейчас ох как!
Иван заулыбался, поняв её стеснение. Ей было неудобно. И перед ним, и особенно перед селом. Вчера только вернулся муж, какая радость! Все уж знают. Мало ведь к кому вернулись-то! А она его – за солью!
- Ну, это если получится у тебя, Вань. Там очередь уже с вечерних потёмок стоит, бабы передались ещё до полуночи. Я бы сама встала, да отелилась наконец наша Брыкуха, мы с отцом и не спали.
- Не бери в голову, - он поднялся.
- Да пойми, я бы сама за солью-то!
Вместо слов Иван прижал её, целовал жарко. Настя, всё тело её, грудь, казались тёплыми, пахнущими молоком и домом. Она прижалась к нему, жарко отвечала на ласки.
Тикали ходики.