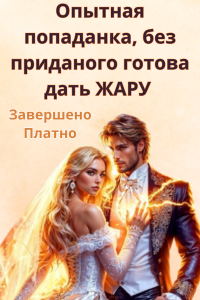Исцеление.
Исцеление.
Исцеление.
Что проще, сказать расслабленному:
«Отпускаются тебе грехи твои» или: «Встань и ходи»?
Но тебе говорю:
- Встань и ходи!
Утро пробудило птичий звон и улетело, и, дрогнув ручьями, потек другой день.
Это и должен быть пустой, как стеклянная банка, день — день проскобленного до дыр бытия.
Он давно собирался сходить в парк, «подышать», и вот, он шел.
Парк этот издавна рос на краю его города, рос и, прорастая, взбегал тупиковыми, тропинистыми аллеями в темный и молчаливо-торжественный таежный лес, а тот уже могуче уходил, качаясь мохнатыми гривами сосен, далеко, за досягаемые человеческой волей горизонты.
Он оделся потеплее — для того, вынул из шкафа стеганые штаны на пуху, дремавшие там всю зиму, подарок свояченицы - и, налив в стеклянный термос чай со смородиной без сахара, погрузил его в небольшой, синий, плотно сшитый рюкзачок, какие обыкновенно носили в те дни студенты — он любил подглядывать за молодежью и перенимать у нее что-нибудь удобное. Молодежи свойственно пробовать, а он, подождав и усмехнувшись, пробовал следом.
В парке мягко таяла зима.
Дорожки местами сверкали серой жемчужной корочкой льда, а местами проваливались под ногами, цедя в ямки следов черную воду весны, еще не уходящую в землю, а дышащую незаметным паром.
Сосны еще не просыпались - в толстых, как сладкие губы лешего, складках-трещинах лопнувшей на месте сука коры не сочилась еще живица. Он снял вязаную перчатку с руки и положил ладонь на живое и спокойное тело сосны. Он хотел почувствовать силу. Кора была шершава и равнодушна.
Аллея шла в невысокую гору, на макушке которой стояла крепенькая, из половинки бревна, скамеечка, и он решил подняться. Там можно было и посидеть — ветра не было, а вид с макушки прекрасный. Удивительно, но ни на дорожке, ни по краям ее, вдоль сосен, совсем не было лыжней.
«Странно, а мы, мальчишками, в такие дни катались».
И его память мгновенно оживила молчащий и пустой парк и наполнила его катающимися на лыжах людьми в ярких куртках и свитерах. Между ними были и они — друзья детства. Они шли, задыхаясь и поминутно валясь в колючий, полный черных чешуек облетевшей коры, тающий снег, шли гуськом по накатанной до мыла лыжне, а впереди шел их атаман — высокий мальчик, в очках и в красно-белом шарфе. Андрюша.
И он еще пару мгновений видел их катания с горок, и их дальнейшие встречи и разговоры, и удивительный интеллектуальный рост и карьеру Андрея, талантливого ученого, и его внезапную смерть на яхте от удара гика. Выбросило за борт, и утонул.
Это было давно и уже забылось.
«И я. Околею, сожгут, покряхтят и займутся делами. И все».
И он посмотрел в лабиринт сосен, прячущихся одна за другою, и, казалось, что-то скрывающих.
«И меня не будет, как и не было до рождения, а все, что есть жизнь, чего хочется, о чем мечтаешь сегодня — это та же глупость, как желание этой птицы склевать семечко».
По веткам рябин и орешника, тонким и пружинистым, прыгали две синицы и, перепархивая, следовали за человеком.
«Да, все наши труды, горести и радости — только сегодня. Сейчас. Дай хлеба сегодня. А будущего нет. И жить ради будущего — смешно».
Внезапно он увидал стоящую возле края аллеи серую бетонную урну для мусора, забитую пузатыми кульками. Часть их лежала рядом. Еще два поодаль вытаивали из сугроба.
«Пришли и гордо принесли. И ушли, навеселившись и отдохнув неизвестно от чего, и от них осталось дерьмо, которое будет гнить годами. Напоминать».
Он зло разглядывал мусорную кучу, с болезненным любопытством «чужого», и тут заметил в просевшем снеге темно-синие корочки книг. Он свернул ближе, нагнулся и прочел на одной: «Тютчев».
«Интересно, «кто» там еще? И для чего было тащить книги в лес? Разжечь мангал для шашлыка? Совсем с ума посходили.
Но это наше время — идет линька, и «мы» меняем оперение. И что тебе до Тютчева? Сотни авторов остались лишь в цитатах поздних современников, еще больше были напрочь забыты — и что? Пока они жили, они клевали свои семечки, а теперь им уже все равно».
И он шел, поглядывая на синиц, а те продолжали виться рядом.
«Живи, живи и дыши. Смотри: вот он - старый парк, вот оно - дерево, вот она - дорога. И радуйся тому, что видно. Радуйся желанию, радуйся соблазну и пластике живого — это тебе награда за смерть».
Аллея раздвигалась и делалась светлее. Тут уже на дорожке были и глубокие, до желтой травы прошлого лета, канавки, полные тихой воды, и гребни снега по обочинам сверкали и плыли под солнцем. Идти приходилось осторожно - того и гляди можно было оступиться, перепрыгивая по сухим местам, и зачерпнуть ногой из лужи.
Он свернул вбок, под сосны, на тропку пробитую рядом.
Тут снег был еще крепкий. Сухой. Из зерен.
Прямо перед ним по тропке шли следы — узкие и коротенькие следы женских сапожек с маленьким каблучком.
«Надо же. Пошла. В сапожках. И куда пошла? И одна. А, нет, с собакой».
Сбоку тропинки вились следы собачьих лап.
Он шел, поглядывая на следы женщины, иногда, на собачьи.
«И ты, как пес. Мужчина преследует женщину. Тревожится. И не надоело».
Аллея чуть завернула, и тут был перекресток нескольких сбегающихся дорог. Стояли лавочки, на ветвях обнаженных до пяток кустов висели самодельные птичьи кормушки в виде крошечных домиков с затейливыми крышами, и висел писанный детской рукой плакатик: «Кафе для птичек».
Птиц, прикормленных за зиму, сидело и порхало кругом тьма-тьмущая.
Тут же стояла молодая женщина в зимней куртке, сапожках - «Вот и она!» - и сыпала из кулечка семечки подсолнечника в одну из кормушек. Ее собака, большой английский сеттер, обегала кругами территорию «стаи» и вдумчиво, как библиотекарь, обнюхивала снеговые манжетки стволов.