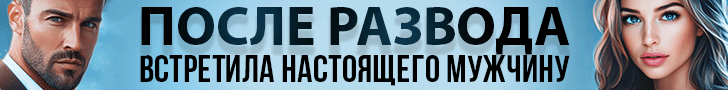Искусство варки яиц
Искусство варки яиц
Шалтай-Болтай был сырое яйцо.
Весь, как ни крути, голова да лицо.
Когда закрутившись он бряк со стола,
врачам королевским задачка была.
Никак не давалась им форма ушей,
и нос был некстати, куда ни пришей.
И прикус они не смогли воссоздать,
и всё остальное, если честно сказать.
На диету они садились внезапно, без подготовки. Тон задавал сам муж, Герман, эту диету и придумавший. К своим сорока восьми он вообще начал много изобретать. Сначала изобрёл способ бросания курить — и бросил. Потом исхитрился принудить себя делать по утрам физзарядку — и принудил. Маша теперь боялась, что он изобретёт способ уйти, и была настороже.
— Не переваришь? — ревниво спрашивал Герман, встав за спиной жены, когда та варила яйца. — А то дай я.
— Отойди, Гера. Сядь! Или порежь салат.
Гера прижался своей передней частью к задней части Маши, был оттолкнут, но без добавления локтем, отчего ухмыльнулся и пошёл резать салат.
Круша тяжёлым ножом китайскую капусту, Гера вслух объяснял свою озабоченность по части варки яиц и как всегда вспоминал свои детские родовые травмы. Их у него было много и с годами почему-то становилось всё больше. Варёные яйца в этих травмах выступали как самые травмирующие.
Маша интеллигентно терпела. Она тоже считала себя москвичкой лишь в первом поколении, поскольку первые годы жизни провела в Японии, так что рассказы мужа о муках деревенского детства возбуждали её не больше, чем текстовые трактовки картин девятнадцатого века. Но сами картины хотя бы молчали, а Гера был говорящий. Это был её третий муж, и ей всё ещё верилось, что последний. Крайний. Нет, спасибо, последний.
Как её снова угораздило замуж, Маша даже помнила плохо. Ей почему-то всё время было смешно и как-то по-новому обещающе. Их брачный контакт неожиданно давал им свободу не думать о квартирах и дачах, чем сразу успокаивал их взрослых детей от предыдущих браков, снимал опасения о вкладах, облегчал понимание о судьбе её ценных бумаг и его авторских прав. Ей казалось, что ей выпал счастливый билет на старость, нередкие мысли о которой она прятала у себя глубоко в душе под сложным паролем «стабильность_и_защищённость». Сравнимого опыта у неё ещё не было, да и Герман её любил. Он всю жизнь тянулся к светлому и высокому, а Маша была всё же светленькой, на каблуках совсем чуть ниже его и к тому же кандидат искусствоведения. Они прожили вместе уже три полноценных года и пока не развелись.
Отбросив нож и облизывая окровавленный палец, Гера вернулся к своей любимой родовой травме. Маша закатывала к потолку свои узкие карие глаза и пыталась думать о чём-нибудь по работе.
— Овец у бабушки всегда было штук пятнадцать, это вместе с ягушечками, так что каждое лето две недели каникул у меня улетали коту под хвост, — говорил Гера.
«Овце», — поправила его про себя Маша, — «овце ведь под хвост, Гера!»
— Овец я не любил.
«А уж я-то как!»
— Нет, пасти их было легко, трудно было мириться с бабушкиной едой. Она мне всегда давала бутылку вчерашнего вечернего молока, заткнутую газетной пробкой, большой огурец или два прямо с грядки, луковицу с перьями тоже с грядки, краюху хлеба и два яйца.
Маша заклеила пластырем мужнин палец, потом дорезала и заправила майонезом салат, поставила на стол две тарелки, положила приборы.
— Молоко я выливал сразу же. Нет, не сразу, в обед. Потому что к полудню оно уже было простокваша. Простокиша, если по-деревенски. Хлеб у бабушки тоже был деревенский, чёрный, ржаной, и даже без горсточки белой муки, и к тому же ходивший не на дрожжах, а на пивном мелу. Потом как-нибудь расскажу про этот мел…
«Не надо!» — вздрогнула Маша, потому что уже слышала рассказ, как дедушка Геры варил пиво.
— Этот хлеб считался «на каждый день» и был очень невкусный. Ноздреватый, липкий и кислый. И черствел очень быстро. К вечеру уже словно камень. Но хлеб ещё ничего, а вот яйца!.. — Герман слизнул вытекшую из-под пластыря капельку крови. — Их бабушка не варила, а пекла. Клала на шесток прямо возле устья топящейся печи. Печь была, разумеется, русская и топилась каждый день, даже летом, потому что бабушке обязательно нужно было выпекать этот самый хлеб да ещё варить суп, из баранины, который она жутко пересаливала, у неё была адская форма гипертонии, и всё равно она не чувствовала соли… Причём магазинный хлеб она считала несъедобным, а электрическую плитку даже не включала, боялась её пуще смерти. И это даже хорошо, потому что мой прадедушка…
— «А прадедушка в Первую мировую был в германском в плену, подружился там с одним немцем, который научил его выигрывать в варшавского подкидного, вот потому и правнука назвали Германом. А ещё на деревне были два Феликса, один Альберт, одна Альбина и одна Кларисса…» — невольно вспомнила Маша.
— Эти яйца всегда у неё перепекались и трескались. И трещины были такие пугающие, вулканические, красно-чёрные. И скорлупа отваливалась, сама. И сам белок был уже резиновый, не жевался. И не белый был вовсе, а красно-бурый. Желток, нет, вот тот оставался жёлтым, даже ярко-жёлтым, как солнце, только рассыпался в руке. Совсем как песок. Сыпался сквозь пальцы, нельзя было удержать… Вот так я и проводил весь день, с пяти утра до пяти вечера, живя на двух огурцах.
Маша с трудом заставила себя не подумать «бедный», положила на каждую тарелку по очищенному яйцу, разрезала их на две половинки, перевернула желтком вниз. Сбоку от яиц уместила по две полных ложки салата, потом подумала и добавила себе третью. Гера сделал вид, что не заметил. Как не заметил и того, что налил ей полный бокал красного вина, а себе только половину. Они чокнулись и сделали по глотку.
— «Сейчас спросит о моём новом начальнике», — приготовилась Маша, но Гера оставался ещё слишком травмирован своим прошлым. Да и будущим тоже. Одной из его последних родовых травм стало то, что Маша пьёт. Он сам так решил, что Маша пьёт, и эти два слова за их совместную жизнь разрослись у него до размеров всемирного катаклизма, который в свою очередь укладывался уже в трёх словах: женский алкоголизм неизлечим.
— Хорошее вино, — нарочито оценивающе проговорил он, беря в руки нож и вилку и приступая к разделыванию первой половинки яйца. — Где купила?
— Немного дорогое, — ответила Маша, — но мы такого ещё не брали. С нотками ореха пекан.
— Хорошее, — снова отхлебнул Гера и оставил себе ещё на один глоток. Из всех красных вин лично он признавал только дешёвую изабеллу из пакета, да и то потому, что её можно было разбавлять водой и пить как обычную воду, разбавленную вином, как это делали древние греки. Но изабелла ему ещё нравилась и потому, что своей терпкостью напоминала черёмуху…
— А что сам? — привычно спросила Маша.
— Ты же знаешь, я только за компанию, — привычно ответил он, — чего зря переводить продукт?
— Ну, налей мне.
Гера снова наполнил ей бокал и отставил бутылку в сторону. Второй бокал Маша принималась пить медленно, стараясь растянуть на весь скудный ужин и найти в этом удовольствие. Но таковы законы диеты. Если уж малоёжестовать, то есть включать режим малоежки, то надо изощряться, чтобы почувствовать себя гурманом. В принципе, такое гурманство Маша даже принимала, так как режим малоежки позволял ей есть всё, чего душа пожелает, хоть фуа гра на завтрак, обед и ужин, но только в очень малых количествах — в целях максимально сокращения размеров желудка и наиболее раннего достижения ощущения сытости. В последнее время с фуа гра было напряжённо.
— Как на работе? — домучала яйцо Маша.
— Анька звонила. Её в больнице опять сделали ответственной за корпоратив. Просила придумать какой-нибудь сценарий…
— Уже придумал? — сощурила глаза Маша, уловив, что он хочет поделиться.
— Есть идея. Из старых задумок.
— У тебя есть ещё и старые задумки?
— Дед Мороз и Снегурочка поехали отдыхать на Тенерифе…
— Интересно.
— Ну и там они, это, значит, застряли на рифе.
— Мы не были ни на каком рифе.
— Это рэп. Стихи самые примитивные, ритм отбивается хвостом.
— Почему хвостом?
— Короче, на Тенерифе, а там они застряли на рифе, а время всё идёт и идёт, давно бы надо в Москву, потому что вот-вот Новый год…
— И чем они там занимались?
— … и тогда они просят Нептуна и Русалочку поработать за них.
— Да-а?
— Нептун одет как обычно, в тельняшку и цветастые трусы до колена, на ногах ласты, но в руках – вилы. Обычные вилы, чисто для смеха, типа, мол, в самолёте забыли трезубец. Русалочка выезжает на каталке. Лёжит вся такая обнажённая Маха. На ногах сдвоенные ласты или целый костюм русалки, розовый, с чешуёй. Слов у неё немного, но они важные, и ещё она должна всё время пошлёпывать хвостом по каталке и поддёргивать вверх свою грудь, а почти весь речитатив читает сам Нептун. Он тоже стукает вилами в пол и движется в ритме рэпа, но ещё должен пытаться танцевать с врачами кадриль…
— С врачихами.
— Может, они даже падают, путаясь в бороде и ластах. Но это так, для смеха…
— И кого ты собираешь ронять в этот раз?
— Никого, — сердито ответил Гера, глядя на свою пустую тарёлку. Маша подложила ему припасённую ложку салата. Потом вытерла руки о фартук, села на место и обречённо допила своё вино. Герман сделал вид, что не заметил, и вонзил в салат вилку так, будто в руке у него были вилы или трезубец.
Маша помолчала, потом вздохнула с выражением полной обречённости.
— В журнале-то как? Реклама ещё есть?
— Всё так же. Рекламы всё меньше, зарплату опять задержат. Уволюсь.
«Сейчас он будет бухтеть, мол, да что это за работа – редактор! Он там, дескать, всего лишь долбаный переводчик, который переводит с русского на русский».
Именно это Герман и пробухтел, состредоточенно ковыряя салат.
— Понятно, — снова вздохнула Маша и решила усугубить: — Жаль, не все ваши дамы понимают в строительстве и ремонте…
— Ну да. А те, которые понимают, толково выражается только матом. Бабы-прорабы. Видел тут одну, когда ездил на объект. Жуткие комплексы орать на мужиков…
— Может, ваши мужики иначе не понимают.
— Всё они понимают. Только одни умеют строить, а другие писать статьи, как другим надо строить. Я же должен понимать и тех и других и пытаться свести в одном предложении домкрат и трепетный рубанок! Слово тут, кстати, слышал. Дизайнеров интерьеров называют дизинтерами, а то, чем они занимаются дизентерией.
Маша не любила такой грубости в Германе, и он это знал.
— Мне опять предлагают делать выставку в Манеже, типа «Роскошь говорит на языке дизайна», — сказала она, глядя в сторону окна.
— Да-а? Это там, где ванна из чароита, и в ней лежит девушка в бикини, и вся усыпана лепестками, и ещё фонтан с коньяком, — слегка оживился Герман и тоже посмотрел в окно. Там шёл снег, и горели красные кремлёвские звёзды. Там всегда Новый год.
— И фонтан, — согласилась Маша. — Им нужен пиар-директор. Как ты думаешь, соглашаться?
Герман понял, что она уже согласилась, а поэтому ответил не сразу, сунул в рот навильник салата, а потом ещё с полминуты жевал. Он знал, что выглядит глупо и сейчас будет выглядеть ещё глупее, потому что будет казаться умным.
— Ну, не знаю, — словно размышляя, протянул он. — Это дело рисковое. Сейчас сложно просчитать. Хотя, может, и успеете. Кризис кризисом, а рекламные бюджеты рекламными бюджетами.
Маша настойчиво вертела в руках свой пустой бокал. Герман не уступил:
— Облизнись. На сегодня всё. Где-то тут была пробка.
Кофе они отправлялись пить в гостиную, к телевизору, угрюмо глядевшему своим плоским оком на большой раскладной диван и маленький журнальный столик перед ним. Что включать — привычно поспорили. Гера с недавних пор признавал только снукер и покер. Маша любила британские сериалы на языке оригинала с субтитрами. Впрочем, опять же с недавних пор сидение перед пустым телевизором для обоих уже стало чем-то вроде релаксации. Наверное, потому что Маша всегда требовала его выключить, когда принималась выяснять отношения, а Герман впадал в какую-то щемящую мазохистскую задумчивость, глядя на чёрный зияющий провал перед ним.
Случайно им попался «Мой ласковый и нежный зверь», и они решили досмотреть ради вальса. Но вальс всё задерживался, а Гера уже резко встал и начал ходить по комнате, нервически подёргивая руками и чуть не зримо показывая, как Чехов выдавливал из себя в этой повести раба, а затем стал втолковывать Маше, почему и сам Чехов не любил свою «Драму на охоте», ибо Лермонтов через своего Печорина лишь затронул эту тему, а вот Чехов довёл уже до предела! И тогда всё в отвращении отвернулись…
Чехов опасен для семейной жизни.
Кофе как всегда не помог. И хотя они уже переключились на сериал Netflix'a, через полчаса у Маши стали закрываться глаза. Её морило вино. После ужина её всегда морило вино, как и, вообще, любой алкоголь, который она приучилась потреблять каждый вечер во время второго замужества. Солидный мужчина, доктор наук, математик, уговорил её поехать вместе с ней в Америку, в город Талса, штат Оклахома, куда в девяностых его позвали преподавать. Из Америки Маша вернулась с тем же сыном от первого брака, но ещё с малолетней бунтующей дочерью и материалами для будущей диссертации.
Маша практически ничего не рассказывала Герману о том периоде её жизни, впрочем, он всё равно выкручивал себе язык, называя её Оклахомщину «охломонщиной», и любил повторять, что в Москве у неё никаких служанок-филиппинок нет! Это когда в квартире частенько стоял непривычный для него бардак. Про филиппинок она ничего не могла сказать, хотя Герман всё равно продолжал выдумывать то, чего знать не мог. Сочувствовать ему приходил его старый армейский друг Викт, остеопат-костоправ, человек слишком немногословный для своего полного имени Виктор. Геру он с хрустом ломал, но массировать больше всего любил Машу. Маша лишь внутренне смеялась, когда ребята потом засиживались на кухне и Герман сочинял за неё роман её жизни, при этом имея на руках лишь два факта: то, что город Талса стоит на Шоссе 66 и, то, что там все последние годы жил, трудился и там же умер великий русский поэт Евгений Евтушенко. Не математик, поэт. Маша не любила вспоминать о Евтушенко, хотя тот преподавал в том же университете, что и её муж. Она не любила стихов.
И, вообще, она в жизни многое не любила. Очень не любила Восток и буквально всё, что с ним связано, хотя и провела половину детства в Японии и немного там даже прославилась — тем, что посидела на коленях у Гагарина, когда тот совершал мировое турне. Тот японский журнал и саму ту, отдельно, фотографию Маша прятала глубоко в шкафу, немного стыдясь. Во-первых, на снимке она была слишком толстой, такой надутой пухляшкой с узкими щёлочками глаз. Во-вторых, то был чистый блат. Потому что это её отец отвечал на приём Гагарина в Японии и сам лично водил его по магазинам, когда тот хотел купить кинокамеру. «Вот эта камера», — как-то ткнула Маша в экран, когда 12 апреля по какому-то из каналов шёл фильм о личной жизни первого космонавта. И да, это именно её отец, по просьбе всей советской общины, привёл Гагарина в детский сад полпредства/посольства. Гагарин не мог отказаться пофотографироваться с детьми, но на коленях у него повезло только самым маленьким.
Через некоторое время отца перевели в Красноярск, потом в Москву. Гагарин к этому отношения не имел — просто так случилось, что несколькими годами ранее именно машиному отцу удалось украсть у японцев важный сервопривод, микродвигатель, который позволил СССР удачно завершить миссию станции «Луна-2», которая врезалась в Луну и не промахнулась. В Москве отец получил орден Ленина и должность замминистра, а Маша стала заканчивать школу, а потом поступила в университет, на отделение истории и теории искусства, хотя отец упорно настаивал на Институте восточных языков, тем более что сам был наполовину кореец.
Та же детская нелюбовь к Востоку позднее перекинулась и на Запад США, когда Маша оттуда вернулась. Вернулась и вдруг, как сама она выразилась, задышала. Вследствие чего, наступил период её бурной активности. Она защищала диссертацию, создавала модный журнал, была пресс-секретарём фонда Сороса, плавала по океанам на яхте, участвовала в автогонках, затем ненадолго притихла в Третьяковке и снова вырвалась на свободу. Герман встретился с ней в «Метрополе», где в маленьком зальчике на третьем этаже один всемирного известный производитель кровельных и изоляционных материалов проводил презентацию своего очередного продукта. Было десять часов утра, и в зале слонялись едва ли десяток-полтора сонных журналистов. Ранний деловой завтрак-фуршет включал жареные на гриле колбаски и целую батарею бокалов красного и белого вина: производитель учёл все запросы на опохмел.
Маша уже не любила мужчин с усами и бородой, напоминавших ей о яхтсменах, а у Германа ещё и борода была рыжая, но они оба выбрали красное вино, потом поделились последней колбаской, потом во время презентации сели рядом и, в итоге, никто не поехал на работу, а оказались у неё дома, в постели, после чего нашли, что немало друг другу комплементарны (через «е»). Вскоре Герман начал заезжать к ней по дороге домой и сперва просто ночевал, а затем и вовсе перестал возвращаться в свой спальный район, на ходу сочинив и немедленно проверив на практике лозунг: где мой компьютер — там и мой дом.
Неумолимая сила сна заставила Машу встать, поднять Геру и заставить его разложить диван и заставить себя постелить постель. Когда она вернулась из ванной, Гера уже лежал под одеялом. Он помнил, как Маша на кухне не оттолкнула его локтем, значит, всё нормально. У неё был вагинальный оргазм, именно какой он любил. Когда можно помучать, поиздеваться, но потом и самому вложиться по полной.
Минут через двадцать он накрыл уснувшую Машу одеялом, сходил в прихожую, достал из сумки свой ноутбук и направился на кухню. Для пишущих людей одиннадцать вечера ещё слишком рано.
Кухня была большая, но сколь бы велика ни была, ночью двоих человек она не вмещала. Герман такой тесноты вначале не понимал, потому что в квартире была и вторая комната, пусть поменьше. Но та оказалась комнатой её сына и принадлежала её первому мужу, и тем была табуирована.
На кухне Герман поставил чайник, сделал два бутерброда, раскрыл ноутбук и сел работать. Времени оставалось до двух. В два часа ночи Маша встанет и придёт на кухню. И пробудет здесь до пяти. Потом вернётся в кровать и поспит ещё два часа. Больше у неё не получится. В семь утра она снова придёт на кухню и начнёт бродить по ней, как лунатик. Потом внезапно очнётся, спешно позавтракает и уедет на работу.
В самом начале третьего ночи Герман захлопнул ноутбук и убрал его в свою сумку. Из прихожей он снова вернулся на кухню и, не включая свет, постоял у окна. Снег всё шел, но теперь он падал крупными рваными хлопьями. «Стоп, но почему рваными, — остановил себя он, — просто слипшимися. Ведь никто же не рвал». Снег заставил его подумать о деревне, об озере, о рыбалке, и он невольно шевельнул носом, словно в носу стало кисло. Что-то мешало жить. Всё-таки у них с Машей практически ничего общего. У него дом в деревне, на севере, в Тверской области, прямо за Волгой, у неё — полноценная квартира на территории санатория на юге, на Оке. У него ещё крепкая и упругая как орех «Нива», на которой он в Москву не приезжал. У неё — Мерседес GLK, чётко в профиль похожий на машину Третьего рейха, типа той, на какой ездил Борман, и на котором она ездила на соседнюю улицу, на работу…
Когда он лёг, Маша уже проснулась и ждала. Сразу повернулась на левый бок, к нему лицом. Он выложил руку на её подушку, подцепил её голову сгибом локтя и привычным движением умостил у себя на плече. Затем перекинул через неё свою правую ногу и подгрёб её к себе всю, крепко пяткой зафиксировав ягодицы. Маше оставалось лишь выдвинуть колено, обхватить его грудь рукой и сделать короткую серию похотливых движений тазом. Затем, уткнувшись ему под подбородок, на несколько секунд она замерла, потом глубоко вздохнула и начала процесс рассоединения.
— Помнишь, как Гашек варил яйца, — во сне пробормотал Герман, когда уже утром она пришла одеваться и шумно сдвинула дверь встроенного зеркального шкафа. — Варил, варил, а они всё твёрдые и твёрдые…
#64728 в Любовные романы
#13225 в Короткий любовный роман
#22120 в Современный любовный роман
Отредактировано: 16.02.2023