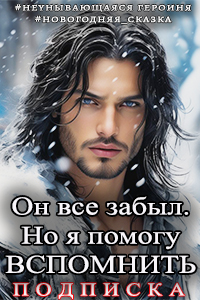Исповедь перед инфарктом (1985)
1-я попытка сказать о себе и о том, что я понял о смысле своего существования
ИСПОВЕДЬ ПЕРЕД ИНФАРКТОМ
Опыт очень краткой автобиографии
Предисловие
Ещё до мая 2006 года, когда я начал набирать этот приводимый ниже текст, я разыскал эти свои старые черновые записки 20-летней давности и дал им название: «Опыт автобиографии. 1985 год». Решил, после некоторых колебаний и размышлений, их опубликовать (в Сети) – но требовалась основательная редакторская проработка.
Работа шла очень медленно, трудно и с большими перерывами. Я старался делать только те исправления и добавления, какие, как мне казалось, я бы мог, в принципе, сделать и тогда, 20 лет назад, в той обстановке, на самой заре начинающейся Перестройки, если бы продолжил и дальше работу над этим текстом.
Я произвёл разбивку текста на абзацы и дал названия главкам. Соблазн уточнять, дополнять и улучшать был непрерывный, но время слишком поджимало, и мне пришлось остановиться на том варианте, какой я сейчас и предлагаю вниманию моего читателя.
Дополнительные комментарии к публикуемой рукописи читатель сможет получить в Послесловии («20 лет спустя»).
5.8.2006.
Опыт автобиографии. 1985 год.
(Черновик неоконченного и неотправленного письма к писателю Леониду Жуховицкому)
1-я тетрадь
(1) 26.6.1985. 02.00.
Здравствуйте, Леонид Аронович!
Прочёл вашу книжку «Счастливыми не рождаются» (М., 1983) и третью статью из серии о «высокой девушке» в «Смене» за прошлый год. И то, и другое взял в центральной районной библиотеке. Буду ловить и дальше всё, что вами написано. Ещё почти в самом начале чтения первой вещи стал порываться вам написать: буйным потоком ринулись мысли, чувства, переживания – слишком это всё было близко, слишком наболело, слишком задевало. А главное – я почувствовал, что здесь может быть контакт, что здесь меня могут понять, что здесь я смогу вырваться из своего дикого, до звериного воя осточертевшего отшельничества.
Кто я такой? Чтобы удовлетворительно ответить на этот вопрос, надо рассказать всю свою жизнь, как это ни трудно, – что я и делал раньше, когда знакомился с новыми друзьями…
(Моя биография)
МОИ ПРЕДКИ
Время рождения – осень 1951–го года, место рождения – Ленинград. С городом этим связан накрепко, уже мои прадеды и прабабки жили в Санкт-Петербурге. По семейным преданиям (в основном – по рассказам деда), предки мои по отцовско-дедовской линии – донские казаки, фанатики-раскольники, участвовавшие в восстании Пугачёва, и после разгрома восстания осевшие в глухих лесах по Вятке, Каме и Белой.
Помню дедовские старинные песни, его рассказы о разбойниках, об их атамане, оставшемся в живых последним из их ватаги, и отстреливавшемся от царских войск с самой вершины колокольни на острове, пока и его не настигла пуля…
Один из прапрадедов был артиллеристом, ходил с Суворовым через Альпы, тащил с товарищами на своём горбу свою пушку через снега и горы, штурмовал Чёртов мост, и за проявленную храбрость и героизм получил от Суворова дворянство. Вернулся домой почти оглохшим от пушечной пальбы, и продолжал, хоть уже и дворянин, точить веретёна и со всей семьёй плести корзины. А сын его, чтобы освободить своих сыновей от воинской службы, всех записал в мещане.
Прадед был, по рассказам бабки, великим песенником и сказителем, знаменитым на весь Вятский край. Слушать его собиралась уймища народу, и засиживались у него до глубокой темноты. Страху своими сказками-страшилками он умел наводить такого – что буквально доводил своих слушателей до заикания. Расходились от него не иначе – как плотными кучками, и, как рассказывала бабка, непременно имея при каждой или топор, или косу, или дубину покрепче. И, однако, чем больше он умел навести такого страху на слушателей – тем больше к нему тянулось народу на эти посиделки. Славился он также крайней непоседливостью, отчаянной удалью, лихим плясом, буйным и неистощимым весельем и полным неумением «делать копейку». Был он земляком и, примерно, ровесником со Степаном Халтуриным. Был ли с ним в каком родстве, встречался ли с ним – не ведаю. Хотя тогда, почитай, почти вся Вятка была между собою в родстве или свойстве, и почти все друг друга там знали.
(2) 26.6.85.
ДЕД
Дед мой (по отцу) угодил в самую гущу жизненной круговерти. Был он односельчанином, одногодком (а, возможно, также, и родственником) легендарного Егора Сазонова, эсера-террориста, убившего министра внутренних дел Плеве. С раннего детства дед общался со ссыльными, которых в тех краях было множество. Какой-то ссыльный латыш-лютеранин обратил его из православия в протестантство. Потом, в Уржуме, дед вступил в социал-демократический кружок, в котором состоял и Киров (правда, в другое время). Несколько раз арестовывался, подвергался всяким репрессиям…
В 1899-1902 гг. шла англо-бурская война, Россия (хоть и не очень активно) поддерживала южно-африканских буров. Нашлось немало русских добровольцев, отправившихся воевать за Трансвааль и Оранжевую республику. Среди них отправился сражаться за свободу буров и мой дед. Но до пункта назначения он не доплыл – по пути его скрутила тропическая лихорадка. Едва живого его оставили в каком-то африканском порту. Он очень долго болел, был на волосок от смерти. Страшно ослабевший от болезни, он с большим трудом, с немалыми приключениями и злоключениями, добрался до России… Рассказывая мне, совсем маленькому мальчишке, эту историю, дед вспоминал популярную тогда в России песню, так покорившую тогда его душу: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…»
Потом дед странствовал по всей России, преимущественно – по Волге, переменил множество мест жительства и видов работы. Участвовал в стачках. Во время разгона одной из демонстраций (кажется, в Царицыне) был ранен пулей в ногу (мне было года четыре, когда он показывал мне след от раны…). Рассказывал, как во время одного из еврейских погромов он, будучи тогда аптекарем, хитростью спас в своей аптеке от верной гибели худенького мальчишку-гимназиста, еврея (выкурил погромщиков нашатырным спиртом).
#13893 в Проза
#6277 в Современная проза
#11749 в Разное
#1036 в Развитие личности
Отредактировано: 22.06.2024