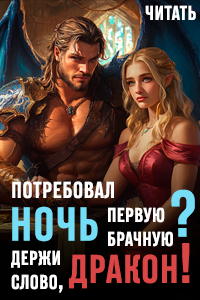Из двух зол меньшее
Из двух зол меньшее
Станислав Мнишек-Вранич, по рождению наполовину серб, по духу полностью поляк, так и не понял, почему вообще началась война. В его странное, ни с чем не сравнимое понимание такой результат советско-немецких переговоров совсем не вписывался — Станислав совсем не понимал, кому могла понадобиться его страна. Нет, он не был ярым патриотом и не строил себе воздушных замков по поводу того, какую роль играла Польша на мировой арене, но всё-таки ему было откровенно жаль то, что из неё сделали две сверхдержавы. Станислав подобного не любил ещё со времён восстания Костюшко, а потому теперь ежеминутно ловил себя на мысли о том, что свободно дышать и мыслить у него не получается, будто тело и остатки души чем-то сдавили. И он знал чем.
Смертью.
Да, Мнишек, хоть и сам сеял и любил сеять смерть, сейчас был сбит с толку и выброшен на берег подобно рыбе. Он ощущал себя на каком-то перепутье и не знал, что ему выбрать, а главное, из чего, но чувствовал, что у него нет права на ошибку.
Всё решилось само собой, когда Станислав бесцельно бродил по улицам любимой Варшавы и увидел стену между двумя домами, полностью перегородившую всю улицу — это было гетто. Вампир чуть не отшатнулся, почуяв запах болезни, смерти и отчаяния — такая смесь его никогда не прельщала. Мнишек хорошо знал и любил запах крови, смерти, находил эстетику в убийстве, но тут было совсем не то. Было что-то очень мерзкое и подлое, что-то, что Станислав не мог описать никаким известным ему способом. Это будто запустило в нём доселе не работавший механизм, и сердце, до поры мёртвое, велело ему обхитрить всех и просто спасти тех, кто был там, за гранью жизни и смерти.
Легко сказать — обхитрить, но как это сделать? Мнишек думал над этим две ночи и пришёл к выводу, что ради всего приходится чем-то жертвовать. Иными словами, выбирать то, что несёт меньший убыток и большую выгоду. Для спасения нескольких тысяч человеческих жизней можно было пожертвовать убеждениями и уважением сородичей. Оно того определённо стоило.
Станислав и пожертвовал: на утро он стал нацистом, получил красную нашивку и крепкое рукопожатие немецкого офицера. Теперь надо было на запятнать себя ещё больше. Теперь надо было действовать.
Доступ в гетто Станислав получил быстро и беспрепятственно, ему явно доверяли. Удивительно, но его дворянство сыграло ему на руку. Он отчётливо знал — его вряд ли заподозрят в помощи евреям или Советам, у него было довольно безопасное положение, и теперь надо было хитрить и обманывать документы. У нацистов всё по документами, никто и предположить не сможет, что там ошибка. Блестяще.
Вывоз обеспечивали по запасным путям, которые прокладывались на деньги пана Мнишека, слуги в его доме, тоже сплошь евреи, не знали, что такое побои или крики — граф обращался с ними так же, как и с польским персоналом. Документы Станислав подделывал сам, реже с помощью Штрауса или Шпигеля, никому, кроме них двоих, не рассказывая о том, что он делает. Он не любил кичиться или хвастать, да и ситуация совсем не располагала. Это было дело чести.
Идиллия омрачалась лишь немногим: все его друзья из числа шляхты отвернулись от него, на улицах смотрели косо и криво улыбались, а немцы относились с снисходительным презрением — кровное происхождение вампира не давало им покоя. Не то чтобы Станиславу было так важно общество и его мнение, но порой ему бывало тяжело. В такие моменты он навещал полубезумного Милинского, так и не оправившегося от смерти своей матери, пытался разговорить его, сам не зная, зачем это делает. Милинский, на удивление, всегда отвечал и вполне мог поддержать разговор. Он без труда давал оценки действиям друга и туманно советовал что-то, странно, жутковато улыбаясь. Рихард любил повторять:
— Никогда не слушай их, никогда. Иди своей дорогой, Стась. Ты ведь можешь, ты сильный. Болезнь пережил, смерть пережил, потерю пережил, всех своих врагов. И это переживёшь, дай только срок. Не слушай, у тебя своя голова на плечах.
Станислав, в общем-то, и не слушал, у него не было подобной привычки, но что-то внутри кололо его, нашёптывало:
— Тебя не ценят, не ценят, потому что ты не привык безрассудничать. Не привык сжигать мосты.
Он часто думал о том, можно ли назвать трусостью его поступок. Мнишек, конечно, слышал о судьбе Матиуша, слышал о горе Яноша, о многих, кто погиб во имя правового дела. Но нужны ли жертвы, если их можно избежать пусть и порочащим честь, но неплохим по своей действенности способом? Нужны ли жертвы, если о них упоминают только ради того, чтобы лишний раз подчеркнуть своё или чужое преимущество перед тем, у кого их нет?