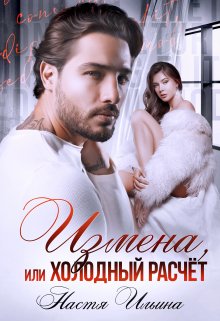Из одного теста
Из одного теста
"Дорогое человечество, не знаю, чего ты от меня ждёшь и ждёшь ли вообще, но катись-ка ты ко всем чертям. С уважением, скиталец поневоле".
Борис Вячеславович вытянул ноги и навалился на перевёрнутую скамью. Облезлую, некогда зелёную, как трава в мае. В лучшие времена. Тогда, кажется, солнце светило ярче. И вода была чище. Вот с этим, пожалуй, можно согласиться. Вода — ресурс капризный. Чуть что, сразу вся рыба брюхом кверху. Тёмная гладь покроется серебром. С запашком, конечно, но если успеть на пир в первый — максимум второй — день, то животворящий огонь явит миру чудо и жареных окуньков, а то и вовсе чехонь. Правда, это, считай, великая удача, да не про нашу честь.
— Ну, Васёк, за нашего нового знакомого!
Он осторожно коснулся оливковой фляжкой миниатюрного и желтоватого кошачьего черепа и кивнул ему. Отпил, скривил губы, а после вытер их о рукав видавшей лучшие времена штормовки. Взболтал содержимое, проверяя остаток. Ещё хватит, ночь точно пережить можно. А завтра будет завтра. Может, ещё жмур какой найдётся с припасами по карманам. Очередная бестолочь.
— Вот смотрю я на тебя, ПалСаныч, — Борис Вячеславович чуть привстал, сунул за спину потёртую надувную подушку, крякнул и снова отпил, — и в толк не возьму: ты мужик толковый, а бабы у тебя нет. Нет, ты дослушай. Это идиоты только считают, что сейчас времена такие, — забасил, передразнивая двадцатилетних умников, — что надо только в одиночку, в тайгу, в леса, жрать шишки и кабанье дерьмо. Трудно без бабы-то.
ПалСаныч выдвинул походную ложку на всю длину и помешал ароматное варево в котелке. Сухие поленья успокаивающе потрескивали, а дым пропитывал одежду и иногда попадал в глаза. Небритый мужчина пожал плечами и не ответил. А что говорить? Прописные истины, что да, надо где-то оседать, планировать пускать корни на еле живой земле, завести двуглавую козу и пятиногих цыплят? Так, что ли? Нет, тепло женщины ничто не заменит, никакой нагретый спальник в подмётки не годится. Но ругань, перебранки, все эти слёзы. А если ребёнок вдруг замаячит на горизонте? Трястись, что родится дикобраз с медвежьей мордой?
— Молчишь, ПалСаныч. Вот и молчи. И на ус мотай свой нестриженый. Я в твои годы бегал за каждой... Вот шельма.
Борис Вячеславович сердито поджал губы, затем в сердцах выругался. Раздосадованно растёр окурок папиросы о скамью, но почти сразу опомнился и по-отечески любовно сдул табачные частицы и осторожно распрямил бумагу. Бережно оттянул нагрудный карман и, постукивая, затолкал окурок внутрь.
— Пропахнет же всё, — с укоризной полушёпотом проворчал ПалСаныч.
— Помолчи. Не дорос ещё старших учить. За Васьком присмотри, а я гляну, что там за сволота тво́рится.
ПалСаныч поднял с колоды тёплую вязаную шапку. Старая, ещё от отца осталась. Синяя, с белой полосой на сгибе и с аккуратным маленьким помпоном. Отца уже давно нет в живых, не пережил коллапса глобальной экосистемы. При таких словах хотелось вытянуться в струну, приложить ладонь к голове и отчеканить: "Служу отечеству!" Слишком заумно обозван тотальный конец всего. А толку, что белые и чистенькие халатики над названием поработали? Всё одно — черви всех пожрали. Люди дохнут, собаки дохнут, всем трудно. Даже чумным крысам непросто, хотя, может статься, для них-то как раз настало время утех и радости.
Борис Вячеславович вернулся и сел на прежнее место у скамьи. Ружьё положил рядом с собой, похлопал его по прикладу, дескать, на тебя вся надежда. Вынул из кармана непростительно помятый окурок, чиркнул спичкой о ещё живой бок коробка и закурил. Вдали, там, где расположилась низина города, из-за тёмных силуэтов по-осеннему печальных деревьев выглядывали три трубы ТЭЦ. Две высокие и одна пониже. Только верхушку видно.
— Ну, что там? Собаки?
Борис Вячеславович отмахнулся и выпустил горький дым. Почесал костяшками колючий подбородок и потянул ворот тёплого бурого свитера.
— Нет, пусто. Может, показалось, а может, отбившаяся шавка была. Пойди разбери теперь, кто кому кум, а кто брат и сват. — Он достал из рюкзака небольшой шуршащий пакет, развязал узел и высыпал внутрь содержимое едва живого окурка. Небрежная расточительность ни к чему. Когда прижмёт, тогда и это будет подарком былых дней. Ветер донёс запах варева. — Софья Николаевна, матушка моя, покойница, варила такие щи вкусные. М-м, какие она варила щи, ПалСаныч. Мировая была женщина. Умерла ещё до всего этого безобразия, наверное, оно и к лучшему. Увидела бы сейчас меня, обругала бы, не иначе. "Борис, кончина планеты не повод не бриться и не стирать одежду. Водоёмы, чай, не пересохли, а руки не отвалятся от холодной воды".
Вечер навалился внезапно, как всегда бывает осенью. Светло, ярко, и вдруг вечер, а ты моргнуть не успел. И уже все окна наполнены светом люстр и настольных ламп. Люди садятся ужинать за стол, на диваны, ходят по дому, учат уроки с детьми и пишут отчёты. Шторы редко где задёрнуты, поэтому из автобуса удобно наблюдать за первыми этажами. Как аквариумы.
Они остались в воспоминаниях, потому что окна больше не загораются по вечерам, не вспыхивают жёлтыми и белыми огнями. Никто не садится за стол. Пустые глазницы домов уныло смотрят на улицу, а уж если ещё дождь идёт, тогда на душе становится совсем паршиво. Если где-то и виднеется свет от свечи, слабо озаряя комнату или кухню, там тебя точно не ждут. Лучше не соваться с дружескими предложениями.
Деревяшки, которые и в лучшие годы держались на честном слове, обваливались. Если идёшь по городу или находишься в некогда неблагополучном районе, а в это время рухнет крыша, вороньё взлетает с деревьев, а голуби, как ошалелые, начинают кружить над районом. Звук от обвала гулкий, многослойное эхо разносится вокруг и пугает птиц.
Где-то помаячит еле заметная фигура, то ли есть, то ли показалось, но, даже если человек был, он спрячется. Убежит, укроется в какой-нибудь дыре или норе, сожмёт автомат или что у него там есть и лучше переждёт час, чем кинется на амбразуру.
Не глуп.
Облака нависли тёмные, серые, вперемешку с синим. Тяжёлые, будто вот-вот упадут. Извилистые, как волны на неспокойном море. А между волнами налит гранатовый сок, будто кровь. А может, так и есть, кровь. Правда, небесное море не бескрайнее, вон, виден конец у самого горизонта. Там участок ещё жёлтый от уходящего солнца. Деревья раскинули голые ветви, и как сквозь скелет видно желтизну окоёма.
Вышка. Даже две, только не близко друг от друга. Может, там стадионы, тоже пустые, как желудки у голодающих бродячих псов. Эти паскуды стали особенно злыми и облезлыми. Ноги не успеешь унести — загрызут.
Одинокие высотки, мертвенно пустые и бездыханные. Будто покойники. Груды кирпичей с оконными проёмами.
— Ну, ПалСаныч, тащи-ка сюда свою карту. Давай посмотрим ещё раз, куда мы идём, а то я скоро взвою от унылости нашего бытия.
ПалСаныч усмехнулся словесным вывертам, но порылся в рюкзаке и извлёк клеёнчатый свёрток. Развернул его, осторожно, будто зеницу ока носил с собой, и передал Борису Вячеславовичу сложенную вчетверо карту.
— Вы, географы, странные люди. В школе поди работал учителем?
— Ага, — подтвердил ПалСаныч.
— Я и говорю, люди вы удивительные. Самородки. Географы — они как властелины мира, всё знают, всё умеют, всё ведают. А уж как вы рассказываете про стороны света и разные края. Всё принадлежит вам, от края одной плиты до другой. И ведь не сомневаешься ни на миг, что так оно и есть. Вот взять Анды. Ну-ка, скажи про них что-нибудь.
ПалСаныч пожал плечами и выпрямил спину.
— Анды, или медные горы, именно так инки называли самые длинные горы. Кордильеры растянулись на рекордные девять тысяч километров. Вдумайтесь только в эту удивительную цифру! Малахитница по праву могла бы себя назвать хозяйкой и этих медных гор, молодых и величественных. Долгое время местность, где находятся сегодняшние Анды, была то сушей, то морем. Помимо прочего, Анды — это ещё и межокеанский водораздел! Атлантический и Тихий океаны... — уверенно начал он.
— Вот! Вот об этом я и веду речь. Ты рассказываешь об Андах не как об Андах, а как об Андах, — Борис Вячеславович пробасил последнее повторённое название, поднял руки и потряс кулаками, изображая исполина. Повелительно сморщил нос и вскинул подбородок. — Не про какую-то географическую штуку, а про свои горы. Будто они правда твои. И попробуй кто усомниться в этом! Биолог никогда не скажет, что все жуки и пауки и чешуя луковая только его, как химик не присвоит себе таблицу Менделеева, а вот географы — это отдельный разговор.
Борис Вячеславович поднял указательный палец, кивнул и достал фляжку. Отпил и протянул ПалСанычу. Хороший вечер, тихий. Тишина — оплот покоя, его синие киты и мировая черепаха.
— Геологи сделаны из того же теста.
— Это почему же?
— Потому что я сам геолог и своё тесто знаю как облупленное. Мы с вами, самородками и чудаками, одной крови. Пей, географ. Хорошо, что мы с Васьком тебя не пристрелили.
ПалСаныч улыбнулся, посмотрел на Васька и засмеялся, хлопнув себя по колену.
Действительно чудесный вечер, пусть и морозный. Пальцы немеют, но это не беда. Главное, что тишина закончилась, есть с кем её прервать, а не в одиночестве сходить с ума.
#31486 в Проза
#17623 в Современная проза
#26230 в Фантастика
#3327 в Постапокалипсис
Отредактировано: 16.08.2018