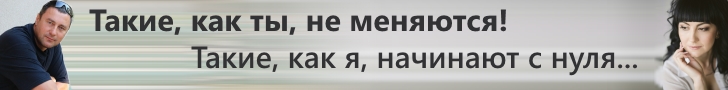Как рассказали бы сказку "Три поросёнка"...
Как рассказали бы сказку "Три поросёнка"...
Рэй Бредбери:
Далеко за окоёмом, на берегу высохшего марсианского моря, где гудел суровый ветер и сталкивались в вековечной борьбе песчаные волны, жили три поросёнка. Пищей им служил свет лучезарной звезды, все ночи стоявшей над горизонтом, одеждой – воспоминания о минувшем. Подобно древним статуям стояли они под сенью глубокого ущелья и слушали, как медленно-медленно струится кровь по их жилам.
Едва заметно шевелились их хвостики от подступающих зимних холодов, но мечта о путешествии к третьей от Солнца планете согревала их сердца и тушки. Мечта подчинила себе их волю и чувства, напоминая о том, что они рождены для стремленья, неустанного стремленья вперед, в глубины времени и пространства, сквозь чёрные провалы непознанного, вопреки любой предопределённости, к недосягаемым солнечным вершинам счастья и гармонии.
Венедикт Ерофеев:
«Э, на уазике, харэ тупить-то!» – сказал Ниф-Ниф, старший поросёнок, и немедленно выпил.
«Слезьте с ручника, окороки недоделанные! Зима, б…дь, на дворе, а двое, б…дь, сосунка первого года службы даже, б…дь, не чешутся». Ниф-Ниф выпил еще раз и осмотрелся в поисках свиноматки.
Нуф-Нуф и Наф-Наф, услышав знакомые слова, подняли рыла от импортных желудей в пакетиках.
Дж. Р.Р. Толкиен:
С тех пор поросята жили в уютных норках с круглыми окошками. С раннего утра они кубарем вылетали веселиться и бездельничать. Дни напролет можно было лакомиться свежей черникой, вприпрыжку бегать за повозкой молочника Визгинса, играть в прятки за оградой старого Хряк-Хрюка.
Но вот настали тёмные времена. Что-то зловещее и неотвратимое надвигалось с Востока на поросячьи норки. Враг, древний могучий Враг не спал.
Стивен Кинг:
Волка когда-то звали Няф-Няф. Он был четвёртым поросёнком, проведшим свою молодость у очистных сооружений атомной станции. Ему приходилось сражаться с ордами самых страшных существ, порождённых ядовитой пастью ядерного вулкана: бобрами-носферату, саблезубыми зебрами, фосфорецирующими совами, скотозомби, туристами-экстремалами.
Постепенно его мышцы обрели стальную крепость, пятачок вытянулся в хищную морду с тремя рядами загнутых внутрь зубов, тело покрылось жёсткой шерстью чёрно-синего цвета.
В полночь Волк выползал за ограду кладбища для домашних животных, где прятался от дневного света, и начинал свою охоту.
В. Пелевин:
Волк стоял перед дверью. Эта дверь была точной копией двери дзэнского храма в Лхасе. Монахи называли ее «дверь сущности, открытой для созерцания». Как гласит предание, сам настоятель Ху И, достигший пятой степени просветления из четырёх возможных, боялся медитировать перед этой дверью. Бывали случаи, когда практикующие, познав путём созерцания трещин на косяке бренность всего сущего, не могли остановиться на этом. С годами они познавали и бренность мыслей о бренности всего сущего, и бренность мыслей о бренности мыслей о бренности всего сущего…
В общем, Волк стоял перед дверью. Внезапно дверь распахнулась. Появившийся в дверном проёме Нуф-Нуф был точной копией серебряной статуи Просветлённого Поросёнка в Мьянме. Монахи называли ее «вечно неспящей статуей с открытыми для истины ушами». По легенде, сам настоятель Ху Я боялся оставаться один на один с этой статуей…
Ф.М. Достоевский:
Тревога за братьев сжимала грудь Ниф-Нифа. Вдруг он заметил в углу гостиной топор с выщербленным лезвием, оставленный кем-то из строителей. Поросёнок неловко взял его мгновенно вспотевшим копытцем и замер, прислушиваясь к тяжёлому дыханию Волка за порогом. Скрипнула половица и Ниф-Ниф представил, что сейчас он распахнёт дверь и прервётся это дыхание, и останутся позади бессонные ночи, пропитанные страхом, скомканные простыни после кошмаров, в которых хищник, ломая запоры, врывался в дом, чтобы сожрать его обитателя.
«Тварь я дрожащая или право имею?» – эта обжигающая мысль толкнула поросёнка вперед. Он размахнулся топором так, что почувствовал его тяжесть за спиной, и бросился на Волка, забыв открыть дверь. Лезвие топора опустилось на дубовые доски и отскочило, ударив Ниф-Нифа по голове. Поросёнок осел на пол, медленно пропитываясь не волчьей, но своей кровью.
Л.Н. Толстой:
Все поросята счастливы одинаково и несчастливы по-своему. В решающий момент своего несчастья Ниф-Ниф сидел на полу и впервые в жизни думал по-настоящему. Все вещи, которые раньше казались ему главными и единственно стоящими внимания, оказались ненужными. Кукурузные початки и сладкие помои, прокисшая сметана и вареники с мухами, лежалый овёс и позавчерашний борщ – всё утратило привлекательность.
Ниф-Ниф думал о себе как частице поросячьего рода, возникшего неведомо зачем и грозящего поэтому кануть в небытие, ведь ничто не может существовать без предназначения. Ниф-Ниф думал об осязаемом, а не абстрактном зле, скрывающемся за дверью, которое поставило его перед выбором – убить или быть съеденным. И поросёнок чувствовал, что убить Волка – значит самому стать хищником, разорвав тем самым связь не только с поросячьим миром, но и своим прошлым, своей личностью.
Ниф-Ниф понимал также, что этот выбор не случаен, как не случайно и появление Волка. Это событие – проявление некоей могущественной силы, непознаваемого существа, испытующе глядящего на поросёнка сразу через четыре окна.