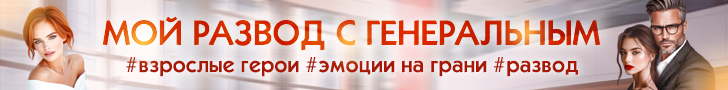Кофе для своих
Кофе для своих
Вера Петровна никогда не любила осень. Справедливости ради, она вообще мало что любила: дочку Кристину, внука Патрика, да еще, пожалуй, сливочное мороженое. Все остальное вызывало только легкое раздражение, если вообще вызывало какие бы то ни было эмоции.
И в такую серую питерскую хмарь Вера Петровна хотела бы сидеть на широком подоконнике, уставившись в вязкое хлипкое небо, и пить кофе с мороженым, полностью отдаваясь сонной октябрьской меланхолии. Но колени не позволяли уже акробатических трюков, давление активно (временами даже слишком) выступало против кофе, а неугомонный Патрик (где ж эти ироды имечко такое для дитенка выкопали?!) звонким смехом и топотом дробил меланхолию на мелкие бытовые грустинки. А их, в свою очередь, полагается запивать терпким индийским чаем.
— Чудесный вечер, правда? — донесся от входной двери нестерпимо восторженный вопль.
Повеяло нафталином и духами “Красный октябрь”. Вера Петровна поморщилась, не то от громкости, не то от нахальства старой (во всех смыслах) подруги и отставила чашку трясущейся рукой, чтобы не расплескать напиток, когда жизнерадостный ураган доберется до кухни.
— Неправда, — отрезала женщина, не давая сорвать с себя вуаль болотной тоски.
Елизавета Михайловна еще немного повозилась в прихожей, стуча сапогами по коврику и шурша пакетом с гостинцами, и наконец озарила рыжим сиянием обветшалую узкую комнатку.
— А я тебе говорю, правда! Смотри, какой тортик по акции урвала! После-е-едний! Ну разве не чудо?!
Гостья водрузила на стол “Графские развалины” и гордо их оглядела.
— Можешь даже зубы не вставлять, — рассмеялась старушка, только теперь отметив иронию в названии угощения, — развалины для ворчливой развалины. Ставь чайник, старая.
— Сама приперлась, сама и ставь, — пробурчала Вера Петровна, не оценив обидного юмора.
— Ну и поставлю!
Подруга, ничуть не смутившись, вновь подскочила и завертелась по кухне цветастой юлой. Чайник шипел, чашки звенели, коробка на торте шуршала, а звонкий старушечий голосок напевал незатейливую песенку из далекой юности. Слов Елизавета Михайловна, разумеется, уже не помнила, а потому перевирала и дополняла по собственному вкусу, отчего мелодия перевиралась тоже, и все это сливалось в необъяснимо праздничную атмосферу. Будто за окном никакая не осень, а самый настоящий Новый год.
Восьмилетний мальчишка, безошибочно распознавший в кухонной кутерьме предстоящие угощения, сунул в дверной проем взъерошенную светлую головку, радостно поздоровался с гостьей и под строгим взглядом своей бабушки умчался в комнату. Ждать, когда позовут. А позовут обязательно. Вот только наворчатся всласть, косточки соседям перемоют, и сразу позовут.
— Сядь ты уже, егоза! — не выдержала Вера Петровна.
— Так еще же блюдце с вареньем надо…
— Не надо. Слипнется.
— Ну и ладно, — беззаботно отмахнулась Елизавета Михайловна, — в нашем-то возрасте о чем волноваться? Зубов нет, целлюлит в морщинах не разглядишь, а к стульям приклеемся — так внучка позовем, мигом оторвет.
— Вместе со штанами, ага, — пробурчала хозяйка полухрипом-полусмехом.
— И мы навсегда сломаем его нежную психику, — расхохоталась гостья. — Ладно, без варенья, так без варенья. С чего начнем: с болячек, с ЖКХ али с непутевых детей?
— Про детей не будем. У Патрика уши знаешь какие? Он же потом слово в слово все перескажет.
— Да и пускай.
— Ничо не пускай! Они ж его потом в гости еще год не привезут, а я, может, столько и не проживу еще.
— Проживешь, проживешь. Ты еще меня переживешь. Ну давай тогда я тебе про своих расскажу, хочешь?
— Так ты ж не жалуешься, а хвастаешься! — возмутилась Вера Петровна. — А положено жаловаться.
— Кому положено, тот пусть и жалуется. А мы сами себе положим, что захотим. У меня вот Наташка университет забросила.
— Вот те раз! Она ж у тебя умница всегда была! — Хозяйка пристально сощурилась и даже немного оживилась, узнав, что и у подруги не все так гладко. — Беременная, что ли?
— Окстись, карга! — Елизавета Михайловна перекрестилась. — Не-е-ет. Решила, что не ее это, в животин иголками тыкать и на тот свет отправлять.
— Так она ж на ветеринара училась, а не на живодера?
— А оказалось, один черт. Ветеринары они ж не только лечат, они и усыпляют, если вылечить нельзя. Вот на третьем котейке и сорвалась. Не могу, говорит, больше, на этот ужас смотреть.
— И куда она теперь?
— Пошла на курсы косметологов.
— Да ладно? И кому он нужен, косметолог без образования?!
— Нам, Петровна. Нам нужен! Будем с тобой красивые ходить и мужиков штабелями укладывать.
— Тьфу на тебя! Я думала, в кои-то веки жаловаться собралась, а ты опять хвастаешься! Нет в тебе совести.
— Была б вредная и негативная, жаловалась бы, а я…
— Чокнутая и позитивная, — закончила за нее Вера Петровна и сделала еще глоток чаю.
— Не чокнутая, а жиз-не-ра-дост-ная!
— В наши годы — один черт.
— Ну давай тогда ты жалуйся.
— Тебе пожалуешься, как же. Опять так все вывернешь, что геморрой одуванчиком покажется.
— Обязательно выверну. Как же не вывернуть, коль выворачивается. Ты ж сама, дура этакая, выбираешь тоску вместо радости.
— Ну-ну, и диабет вместо сладости. Расскажи лучше, чего ты сегодня такая нарядная. Как на свидание собралась, чес слово.
— Иду в кофейню слушать Баха. Там в одной…
— Ну все. Я так и знала. Деменция.
— И вовсе никакая не деменция.
— Да откуда в кофейне Бах?
— А ты дослушай и узнаешь!
Вера Петровна, порой, могла создать трещину даже в самом непробиваемом оптимизме. И теперь, когда подруга впервые нахмурилась, глаза ее блеснули, как у сытого довольного кота. Это была победа похлеще скандала в ЖЭКе, такое не грех записать и повесить в рамочку.
— Ну давай, порази меня.
— Гуляла я как-то на Ваське.
— Гуляла она, гулена. Так и скажи: шла от врача.