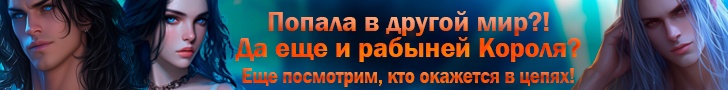Конец
Конец
Misericordia
КОНЕЦ
И вот наступил конец августа, – заскрежетал по асфальту первыми сухими листьями, закричал детским голосами, наполнил город запыленными дачниками, и Аркадий понял – всё, назад пути нет. Дальше только осень. Осень с непроглядным финалом. Зимы же не видно вообще – она станет его бесконечным ледяным адом, его запустевшей квартирой, его голодным холодильником и умолкнувшим телефоном.
Он шел от подъезда до магазина, посматривая на подсохшую кровавую цепочку – ее вчера оставил Пашка Вялый, то ли кто пырнул его, то ли на ограду налетел. Сам не помнит. Потом пришел с закатанной штаниной и перевязанной голенью – Людка-соседка починила. А Аркадий...
М-да, всего-то полгода прошло с той проклятой статьи, а каким темным бесповоротным мороком все заволокло. Он уже и не помнил, когда впервые застал себя в компании Вялого, Хряка, Верки-Помидорки, Славика Резанного... Остались только дикие похмельные пробуждения, трепыхания сердца, судорожное рытье в кошельке и полу-презрительный, полу-жалостливый взгляд Маринки-продавщицы, ставившей на прилавок «Путинку» или «Гжелку»... И непоправимый ужас того утра, когда его – веселого, перспективного, легкого – поднял с кровати звонок редактора. Аркадий не мог предположить, что у Савелича может ДРОЖАТЬ голос. Дрожать от самого что ни на есть первобытного, животного страха. Черт меня дернул написать эту статью! Ведь были же совсем безобидные предложения – про парад ветеранов, про выставку авангардистов, которых с чего-то занесло в их маленький город... Нет, захотелось острого, опасного... И Савелич тоже хорош – не подумал остановить... И, главное, может и не случилось бы ничего, да его, Аркадия, прославленная интуиция, подсказала точную, ТОЧНУЮ до копейки сумму взятки... И администрация города это оценила. Всего один звонок, недолгий, негромкий, стальным голосом... Аркадий знал его обладателя, – низкорослого крепкого Алексеева, за десять лет методично устранившего всех конкурентов на их провинциальном горизонте... «До Бога высоко, до царя далеко»... Он помнил и его взгляд – не глаза, а двустволка, молчаливая и однозначная. И потому несложно было понять вибрацию редакторского голоса: «Увольняйся. Уходи. Навсегда. ОН разрешает остаться в городе, но ты должен онеметь. На век»... Непонятным осталось другое – почему ему сохранили жизнь? Впрочем, чего тут думать – за Аркадием никто не стоял, и Глава это знал. Проявил, так сказать, милосердие к оступившемуся.
Деньги еще были, с прежних заработков, с командировок. Но исчезли, как растворились, друзья-подруги, даже немногие родственники. Звонила только иногда племяшка Ирочка, и как-то пыталась жалеть. Но всякий раз заставала его в невменяемом облике и грустно клала трубку.
И всяко начиналось одинаково, и так же кончалось. Кривые радостные рожи, бледные рукопожатия... «закурить есть?...», «не... Аркаша, купишь?», «щас... Чего взять-то?», «ну, нас четыре – возьми две пока...», «да я про бухло!», «ну, и я тоже. Две, говорю...»...
...Сидели на зеленой железной оградке, Хряк, уходя в бесконечность, рассказывал о том, как под Барнаулом перевернул экскаватор, теряя одни детали воспоминаний и обретая другие. Верка лезла целоваться и мирно засыпала у кого-нибудь на неустойчивом плече. Славик, разозлив Пашку опять получал в морду и падал через ограду на газон. Где и умолкал. В летней ночи было почти тихо, тонким пластиковым писком жили цикады, шаркал, ходя невнятными кругами, Пашка и уже ничего не говорил. И Аркадий, валясь с ограды, упираясь ладонями в остывший асфальт, последним усилием духа поднимал тело и вел его к подъезду, и только две округлые беды болтались в нем: страх и стыд. Страх рождал его нынешнюю жизнь, а эта жизнь рождала стыд, а стыд пытался поднять его с колен, а когда он вставал, то душный животный страх опять швырял его оземь. И так, бесконечными кольцами, непрекращающимися поворотами с этажа на этаж, с одного лестничного пролета на другой, он поднимался к своей квартире на девятом этаже, потому что лифт не работал уже месяц.
Он не всегда просыпался в кровати. Иногда на полу, в коридоре, иногда на кухне, под столом. Сперва еще оставались силы на мытье-бритье, но потом желание дойти до магазина стало перевешивать все остальное, и постепенно Аркадий (Аркан – как его быстро прозвали) сравнялся по запаху со своими новыми друзьями. Были среди них постоянные, были и пришлые, из соседнего двора. Из них выделялся большим ростом и сутулой спиной Профессор, самый настоящий, университетский; и Аркадий ценил редкие разговоры с ним, когда того заносило к их магазину пыльной поземкой. Потом Профессор перестал появляться, и Аркадий лишь спустя месяц узнал, что того больше нет. Но внутри ничего не всколыхнулось, не екнуло. Он просто поднял вверх бутылку пива, пробормотал: «Не чокаемся...», и допил остаток.
Как-то под утро позвонил давно забытый адвокат Серега, и что-то бодро вещал в трубку о возможности вернуться, о какой-то прорехе в законе... Аркадий его выслушал, послал на три буквы и бросил мобильник в батарею. Квартира совсем притихла. А городской телефон уже давно не издавал звуков.
В «Попугае», местном, самом престижном клубе, его любимый столик, в дальнем углу, уже прочно заняли иные люди. О нем тут помнили, но не говорили. Совсем. И только Игорек, старый его приятель-верстальщик, тихо смотрел в стакан, вспоминал аркашины шутки и провожал странным взглядом Савелича, изредка приходившего сюда.
Тем утром было совсем плохо. Так плохо, что взгляд и тело не принимали ничего: ни рыжего августовского света, бьющего мутным жаром сквозь пыльное окно, ни рева перфоратора у соседей, затеявших ремонт, ни бубнежки телевизора. Плазменная панель уже давно Аркадию мозолила глаз, и вчера он даже оторвал ее от стены. Припомнил, где находится скупка старой техники, но на часах уже было десять, а в кармане болталась последняя тысяча. Он поставил наискосяк панель в углу, даже не отключив антенну и шнур, и ушел в кромешную темень – разговаривать с призраками и вспоминать будущее.
Отредактировано: 02.03.2022