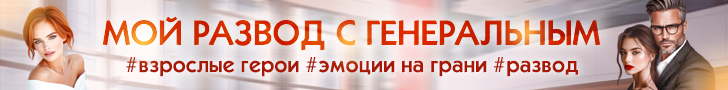Конец моего друга-писателя
Конец моего друга-писателя
Я увидел его спустя полгода или около того – когда совсем уже потерял всякую надежду. Сказать честно, в первые минуты мне почудился человек знакомый, но знакомый как-то далеко, давно; все в нем было узнаваемо, но в то же время и отличительно. Ново.
Он удивился мне почти так же, как и я ему. Недоумение на лице, шмыгание носом, медленно появляющаяся улыбка. Какая-то важность на лице, какой раньше нельзя было заметить. Серьезность, молчаливость. В общем, человек был тот же. Только другой. Мы поговорили минут пять или около того, после чего он пошел своей дорогой, а я – своей.
Это был мой друг-писатель, бросивший письмо раз и навсегда.
Что послужило причиной? Он сказал:
-Иногда мне просто не надо писать. Бывает, что нельзя уснуть ночью, если не написать одного слова – и ты бьешься, борешься сам с собой, подбирая его. Выстраиваешь текст там, где необходимо одно слово. – Я улыбнулся. – Ну ладно, фраза. И ты варишься в этом котле, дружище, и еще не факт, что слово это там будет, проскочит. Совсем не факт. Ты не спишь днями, неделями, месяцами – ты все подбираешь эти слова и фразы. Оперируешь целыми текстами. Задумавшись о поиске слова не замечаешь, как написал рассказ. Или роман. А его ценность – в ненайденном слове, и тот, кто читает – чувствует. И так далее.
Мой друг-писатель любит говорить. Точнее, любил. Сказать можно одно наверняка – за последние полгода или около того он выдохнул, улыбнулся и перестал. Теперь он просто мой друг. Человек, каковых полно. Видящий мир только в том свете, какой он есть: без краски, без музыки, без мечты. Я не спросил, но я знаю – однажды он нашел что-то, что заставило его предать все то, что годы до этого предавало его. Я не спросил его, что могло так повлиять на личность, строившуюся годами. Что заставило его «повзрослеть». Я просто не мог позволить себе спросить.
Людмила удивилась, услышав эту историю. Она сказала:
-Это временно. Твой друг – тот еще эксцентрик. Погляди, - она качала головой, ей наша дружба не нравится. – он заявится через год и потребует денег, коньяка и чтобы ты читал, читал, читал… Это неизменно. Он всегда такой, твой этот друг.
-Не люби его, - пожал я плечами. – но судить не стоит. Я знаю его лучше всех.
-Он же не сказал, что завязал, верно? Ты не такой и тонкий психолог. Спорим, дома у него лежит неоконченный «роман века», который спустя полгода он заставит тебя прочесть?
-Я не буду его читать.
-Почему?
-Потому что он не напишет больше ни слова. – отрезал я и мы пошли, перекидываясь раздраженными взглядами. Мы шли, познавшие страстную, а затем тихую бытовую любовь. Мы шли пить молча чай.
Мой друг-писатель (пусть и бывший) никогда не пил чай молча.
Я помню его… сколько? Долго. Я знаю его лучше его самого; как-никак, он со своими книгами никогда не делал трех вещей – не перечитывал, не редактировал и не публиковал. По статусу он не писатель – он… халтурщик, наверное, или безработный, или селфмейд мэн – кому как больше нравится, разумеется. Но по духу он – писатель. Всегда им был, но я теперь не уверен, что всегда им будет. Грустно ли это? Да, особенно для меня. Его дружба – настоящий приключенческий роман для такого маленького и несмышлёного, как я. А тут еще и чай остывший…
А кем был я? Серьезный, но незначительный? Я был читателем его несуразной жизни – единственной его мерой, единственный, знающий моего друга – почему-то бывшего писателя. Мне всегда хорошо, какие бы передряги не случались. Ведь может ли случится напасти, когда есть город и дом, и теплые батареи, и маленькая жизнь, и Людмила, и наши тихие ужины, и библиотеки (две – и такие они у нас разные), и наш досуг, и наши беседы? Нет, я уверен: узнав подобное, напастей не дождешься, все решаемо, все тебя не трогает. Даже не до конца уверен, какой сейчас год. Не знаешь ни одной мировой новости – узнаешь случайно, анекдотом; коллеги удивляются и приговаривают: «Чудной, ничем не интересуется». А им и невдомек: у меня есть отличная и маленькая жизнь, расширяли которую рассказы моего друга-писателя. Которых теперь не будет вовсе.
Мой друг… помню эти истории – кажется, все до единой. С ним почему-то даже случалось такое, чего со мной никогда бы не произошло.
Вот пора его студенчества. Он уезжает на какой-то съезд, оставляя свою половинку ждать окончания школы, и она ждет, и она совсем не знает, что мой друг-писатель почти о ней не думает, лишь напивается, лишь веселится, знакомится с новыми женщинами и вообще как-то странно понимает понятие «любовь». На том съезде за моим другом-писателем приставлен надзор – девочка-студентка на год старше, хмуро бросающая взгляды на его пьяное буйство. Пьяным он вваливается к какой-то ровеснице и совсем не замечает этого – извиняется, уходит, смешно откланявшись. Пройдет год или около того, когда школьница, дождавшаяся его еще из других долгих мест, окончательно ему надоест. Он с тревожным сердцем уйдет к той, к кому однажды ввалился. После ссоры он уйдет к той надзорщице, уже не хмурой. Чтобы, получив пару измен, вновь вернуться к повзрослевшей школьнице…
Вот его отчисление. Его работа – где придется и как придется. Его легкий и приятный сердцу алкоголизм – его истории о странных людях, тяжелых работах, неосуществимых планах, о музыке, в которой он ни черта не понимает, о терминах, значения которых он так и не узнает. Грузчиком, товароведом, кладовщиком, водителем и сторожем – с хорошей книгой в сумке, тетрадью и карандашом.
-Ручки просто текут, заразы. – Объяснял это он сам.
Он говорил о любви и его глаза всегда закрывались от блаженства. Он мог говорить часами. Я всегда слушал его вполуха – он говорил о любви далекой и мне непонятной. Знал ли он её? Наверняка. Или искал, обливаясь потом в своих тропиках любви. Кто знает? Я многое впитал и кое-в-чем стал разбираться: он был натурой непостоянной и страстной, писал стихи на салфетках в кафе, пил крепкий кофе (совсем не разбираясь в оттенках вкуса, молотый от сублимированного не отличал), широко раскрывал глаза и рот и много махал руками, рассказывая. Возможно ли это без любви? Без иной любви – не той, что у меня или у моих соседей по чувству; любви иной, подчас для нас невозможной, неясной. Он, несмотря на всё, шел вперед. Он даже не умел писать, не оттачивал таланта, не работал над собой. Он просто жил своей жизнью, принимал решения, описывал их, и, говоря языком художественным, не брел в потёмках, как казалось человеку, что не знал моего друга-писателя. Мы все – в потёмках, но у нас в руках есть свечи, огоньки, банки с светлячками; что это, если не наша любовь к женщинам, мужчинам, матерям и детям – что это, если не то, что можно поддать описанию, может кто-нибудь сказать?! Но мой друг… он сам светился. Как призраки из старых фильмов – еле заметным светом, а руки у моего друга не заняты тяжелый ношей. Там была хорошая книга и тетрадь, а в зубах – карандаш. Ручки же, заразы такие, текут.