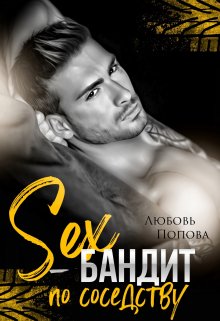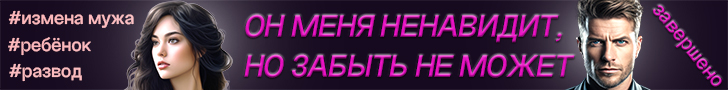Край земли
Край земли

Коллаж by Magica (Наталья Кульбенок)
Июль 1962 года, Пон-Круа
- Все-таки она восхитительна! – стараясь говорить как можно тише, чтобы слова не долетали до посторонних ушей, произносит служанка, провожая взглядом поднимавшуюся по лестнице на второй этаж высокую женскую фигуру, облаченную в наряд песочного цвета, который еще долго будет маячить в воображении девушек городка населением чуть более двух тысяч жителей.
- Восхитительна, - отвечает хозяйка и легко пожимает плечами в противоречивом жесте согласия вопреки рождавшемуся в ней возражению. Возражение пересиливает. Хозяйка широко улыбается и продолжает чуть громче, чем это уместно: - Авто, шляпка и пара туфель. Хотя всей разницы – чуть в бедрах раздалась.
- Разве?
- Ну, совсем растолстеть ей не грозит. А легкой она никогда не была. Впрочем, и на походку это не влияет, пока не начинает прибивать к земле.
- И почему вы всегда подмечаете только внешнее? – огочается служанка.
- Но ведь и ты ищешь исключительности в том, что хорошо внешне, – смеется хозяйка. И, оставляя девушку в одиночестве, тоже отправляется на второй этаж. Ступеньки под ее весом скрипят, и она снова громко смеется. Ее очень много в темном пространстве коридора и узкой лестницы. Там же, скрестив руки на груди, замерла у перил давешняя постоялица.
- Я уже восемь лет в одном размере! – сурово сообщает она.
- Ну а я к старости стала слепа!
- К старости!
Постоялица фыркает и, легко подхватив чемодан, скрывается за дверью своей комнаты. Хозяйка расплывается в улыбке и проходит следом.
- Ты надолго теперь?
- Нет. Не знаю. Вырвалась, но как выйдет… От вас можно позвонить?
- Телефон внизу.
- Хорошо… Позже.
- Жан-Люк, я полагаю, к тебе не приедет?
- Нет, - женщина мягко улыбается, ставит чемодан на кровать и раскрывает ридикюль. Достает оттуда пачку сигарет и зажигалку. Крутит в руках, недовольно глядит на хозяйку и протягивает: - Не беспокойся, я пойду курить на балкон. И Сэм не приедет тоже. Он собирает материал, ему некогда.
- О Сэме я и не спрашивала. И не ожидала его видеть, если уж за столько лет он не почтил нас своим присутствием.
- Не ворчи, Маэла. Ты становишься невыносима.
- В крайнем случае, тебе еще не поздно найти другое жилье, - смех, вырывающийся из хозяйкиной груди почти такой же чрезмерный, как она сама в каждом жесте.
- Даже не подумаю!
- Вот и славно. Ужин в семь.
- Помню. Спасибо.
Маэла улыбается напоследок и идет к двери. На пороге только задерживается, чтобы негромко сказать:
- С возвращением, Эдит!
И лишь после этого оставляет постоялицу в одиночестве.
Которого та жаждет всем сердцем. За ним и ехала сюда, прикрываясь словами о том, что всякому человеку необходима передышка. Хоть краткое мгновение, чтобы глотнуть свежего воздуха. И снова погрузиться в жужжание толпы. Каникулы всегда кратки. Согласие с окружающими невозможно, коль скоро даже с собой примириться подчас нельзя.
Оставшись в комнате одна, Эдит оглядывается, чтобы свыкнуться с мыслью, что на земле есть места, где ничего не меняется. Пусть и через десятки лет. Та же кровать с деревянной резной спинкой, двумя подушками, расшитыми бледно-розовыми цветами, и коричневым одеялом из грубой шерсти. Тот же шкаф в углу – с такими же резными дверцами, как спинка кровати. Круглый столик, за которым она пишет письма, читает или пьет кофе. И запах, пропитавший каждый угол здесь за столько времени – с тех пор, как дом Маэлы превратился в гостиницу. Так пахнут комнаты, которые никому не принадлежат.
От этой мысли к лицу и шее приливает кровь, и она вялыми, рассеянными движениями расстегивает верхние пуговицы. А может быть, просто слишком жарко.
Эдит Дуар все же вернулась домой, как возвращалась всегда. И как будет возвращаться до конца своих дней. Она отдавала себе в том отчет и никогда не думала, что сбегает. Нет, она умела смотреть жизни в лицо, не отводя взгляда. Но, как бы ни было, всегда приходил момент, когда она оказывалась в этой самой комнате – с тем, чтобы потом идти дальше.
Однажды Натан Канадец сказал ей: «Я оттого выбрал Финистер, что на краю света встречаются Земля и Небо, и лучшего пристанища просто нет». Она тогда не спросила, что это значит. Просто подумала, что дом и пристанище – слишком разное, чтобы звучать в одном предложении.
Эдит очень хорошо помнила ту встречу. Она осталась в ней невысказанным сожалением, которое так и не сгладилось за последние пять лет. Чувствовала ли она вину? Нет, не чувствовала в том, что касалось ее самой. Здесь она была эгоистична. Ей подчас казалось, что вина – это тоже щит, которым можно прикрыться. Единственное, что прикрывала Эдит – свое тело одеждой. И то, не слишком тщательно по мнению Сэма.
13 июля 1957 года она приехала в Пон-Круа одна, как и сейчас. Но она любила путешествовать в одиночестве. Ночь провела здесь, у Маэлы, мучаясь жарой и неизвестностью завтрашнего дня. Второе волновало ее больше первого. Ей казалось, что она и дышит-то через раз, когда задумывается над тем, что ее ожидает. Густой воздух лежал тяжестью на груди, и, в конце концов, Эдит встала с постели и устроилась с ногами в кресле у окна в одной сорочке и с клочком бумаги в руках. Подтянула колени к подбородку. И вгляделась в единственную строчку, которая из года в год определяла всю ее жизнь.
«Финистер небо чистое».
Финистер. Небо чистое.
А значит, она, очертя голову, мчится на вокзал – покупать билеты с тем, чтобы 13 июля приехать в Кемпер, а оттуда чем угодно добираться до Пон-Круа. Переночевать у Маэлы. А утром отправиться в Гульен. Потому что там теперь Натан. Потому что Натан прилетел. Потому что она должна ему целую жизнь и, кажется, даже немного больше.
Ей давно не восемнадцать лет. Ей тридцать два. И она никогда его не забывала.
Он тоже давно уже не Натан Канадец. Ему за сорок. И он никогда ее не забудет.
Что бы там ни было между ними. Наверное, так она утешала себя, думая, что их последняя встреча была слишком горькой для обоих. И тут же запрещала себе о том думать. Нельзя выстраивать защитных сооружений. Нельзя забираться в кокон. Даже каску надевать нельзя. Все это для другого. Здесь только чувствовать, только жить. Только помнить о главном: «Финистер. Небо чистое».
Утро пришло чуть раньше, чем она того ожидала. Поманило золотистым лучом из-за тюлевой занавески. И Эдит открыла глаза. Она так и заснула – в кресле и с телеграммой от Натана Нэнва в руках.
Завтрак вышел скомканным. Маэла усмехалась себе под нос.
- Мой велосипед… - заикнулась Эдит, убирая салфетку в сторону.
- … на месте, в чулане, - завершила за нее хозяйка.
У всего на земле было свое место. У ее велосипеда – в чулане Маэлы. С того самого далекого дня, как она перебралась жить в гостиницу, когда была подростком, но уже похоронила семью. На этом велосипеде она ездила тогда, и он был слишком велик для нее. На нем же она ездила и много лет спустя – в Гульен. И улыбалась про себя: в действительности ничего не меняется. Она не меняется.
Ветер шевелил волосы, выбившиеся из-под шляпки. И Эдит думала, что ей хотелось бы, чтобы шел дождь. Будто бы дождь мог что-то спасти. По обе стороны дороги проносились поля, еще не сожженные солнцем. Но там, где она попадала в живительную тень редких деревьев и густого кустарника, могла хоть немного дышать. Впрочем, все эти неудобства не шли ни в какое сравнение с тем, что она точно знала: стоит остановиться – упадет. Со дна ее души поднималась такая волна, что она не понимала, на каком теперь свете находится. Не понимала, как ей раз за разом крутить педали. Не понимала ничего.
А потом увидела Натана, стоявшего у дороги. Ровно там, где она оставила его семь лет назад. Он махнул ей рукой и широко улыбнулся. Эдит только и успела понять, что он стал тучнее, чем она помнила. А потом нога ее слетела с педали, и она благополучно завалилась набок, не успев затормозить.
- Да что ж ты на земле не держишься? – донесся до нее его веселый смех. И в следующее мгновение она почувствовала его руки на своих плечах. Дернул на себя. Лязг велосипеда, жжение коленки со счесанной кожей. Его глаза близко от ее глаз. И почти невозможное биение сердца. Такое не забывается тоже. Его было слишком много, чтобы она могла выдержать. Больше, чем Маэлы, больше ее семьи. Наверное, потому встречи их были редки. И все-таки вдохнуть полной грудью она могла только с ним.
- И ты иногда изменяешь небу, - подмигнула Эдит.
Он помолчал. Совсем недолго. Но когда заговорил, она снова ощутила себя живой, какой не была еще часом ранее.
- Главное, чтобы небо не стало изменять мне. Все прочее пережить можно. У меня сюрприз для тебя.
- Ты сам по себе сюрприз.
- Так вышло.
- Семь лет?
- Семь, кажется. Я не считал.
Эдит считала каждый день. Каждый день 14 июля, который прошел без него. Их было шесть. Этот седьмой – с ним.
- Ты долго ждал?
Она не знала, о чем спрашивает. Долго ли он ждал здесь этим утром. Долго ли он ждал, чтобы найти возможность приехать. Долго ли он ждал, покуда она будет достаточно наказана. Кажется, он ответил на все одним словом:
- Долго.
Все правильно. Главное – не вспоминать того, что душило их. Каждого по-своему.
Потом был сюрприз. Он вел ее велосипед дорогой, и под колесами чуть трещали мелкие камни. Она семенила рядом. Вдыхала запах моря, вереска и дрока. У нее кружилась голова, и проще было считать это последствием непривычно жаркого солнца. В действительности же Эдит была пьяна – этим утром и пряностью воздуха. И счастлива, как не была счастлива уже целую вечность.
Они миновали Гульен, чуть не дойдя до него, свернув на другую дорогу немного восточнее. И обошли его стороной. Натан много болтал и что-то спрашивал. Она механически отвечала, больше наслаждаясь звуком его голоса, чем словами, произносимыми лишь затем, чтобы работали голосовые связки. Ее связки работали менее усердно, чем его. Она больше слушала. И даже не сразу поняла, что Натан, остановившись посреди дороги, произнес:
- Тот дом… под серой крышей… мой.
Она остановилась тоже. И сказанное постепенно, очень медленно достигало ее сознания. Она вглядывалась в стоявшее чуть поодаль невысокое, даже приземистое строение, добротное, сложенное из рыжего кирпича, утопающее в белоснежных гортензиях. Потом посмотрела на Натана и тихо спросила:
- Твой?
- Мой. Его называют Желтой Мельницей. Никак в толк не возьму, почему.
- Я не знаю, Нэнв. Может быть, когда-то здесь была мельница.
- Не похоже.
Снова замолчали. В траве что-то то ли зажужжало, то ли зазвенело. И Эдит все же спросила:
- Что это значит?
Он пожал плечами и, не глядя ей в глаза, но продолжая рассматривать дом, с улыбкой, такой неестественной в эту минуту, сказал:
- Я приземлился, Эдит.
- Но почему здесь?
Теперь уже Натан глядел на нее. И она сама не знала, куда деть взгляд, заставляя себя не отводить его, не забираться в кокон.
- Я оттого выбрал Финистер, что на краю света встречаются Земля и Небо, и лучшего пристанища просто нет.
Это было самое важное, что он сказал ей за всю жизнь. Это было сильнее объяснения в любви. Сильнее дарованной на одно мгновение времени надежды. Сильнее прощания.
Иногда она думала… как часто им приходилось прощаться? Каждый ли раз навсегда? Или это только в ее голове звучало набатом страшное «навсегда». Ее мучило, ее терзало. Здесь же, тоже на краю света. В другом месте, с другими людьми и она была другой. И снова перед ней становился вопрос: с этакой разбитой напополам жизнью – в которой половине она настоящая?
14 июля 1950 года она точно знала ответ. Маэла тискала Жан-Люка, не желая спускать его с рук, пока Эдит уплетала за обе щеки завтрак и подмигивала то ли ребенку, то ли хозяйке гостиницы. Мальчик смеялся и в кои-то веки выглядел вполне себе довольным. Обычно он бывал так серьезен, что его мать никак не могла понять, кому из них двоих три года. Ей или сыну. Во всяком случае, веселиться при этом маленьком мужчине было даже неловко. Но не теперь. Маэла всегда умело подбирала ключики к детям, хотя сама избежала материнства, слишком рано оставшись вдовой и не выйдя замуж вторично. «Нужно обладать недюжинной силой духа, чтобы осмыслить, как сочетаются моя природная нежность со стальными яйцами», - сообщила однажды она, не обратив внимания, как покраснели уши тогда еще юной Эдит.
Видимо, эта самая природная нежность и вынуждала ее часами возиться с чужими детьми.
«В том-то и штука, что они чужие! Своих я бы не выдержала и двадцати минут».
«В таком случае, дорогая, у тебя будет возможность поупражняться, - подмигнула ей Эдит, - я уеду сегодня на весь день».
И внутренне замерла, ожидая ответа. Никогда не известно, чего можно ждать от Маэлы в следующую минуту. Та отвела взгляд от ребенка. Поправила на носу очки и громко фыркнула. Эдит сжалась. Они обе превосходно понимали, о чем сейчас идет речь.
«Поезжай», - наконец, кивнула хозяйка. И больше уже к Эдит не обращалась. Та вздохнула и унесла тарелку на кухню.
Собиралась она быстро, складывая в сумку самое необходимое. Бутылка с водой, расческа, пудреница с зеркальцем. Окно распахнулось, и сквозняк смел со стола листок бумаги. Телеграмму Натана. Эдит легко наклонилась и подняла ее с пола. Едва пальцы коснулись бумаги, она мягко опустилась на стул и подумала, честно ли то, что она делает.
«Финистер небо чистое».
Эдит Дуар получила телеграмму от Натана Нэнва и бросилась в Пон-Круа, успев прихватить с собой ребенка. Это где-то на грани пошлости. Оттого немногословна Маэла. Оттого стыдно сказать Сэму.
Она однажды определила для себя, кто есть кто в этой занятной игре, которая называется жизнью. Было похоже на распускание цветастого свитера, связанного в несколько нитей. Распускать надо так, чтобы ничего не спуталось, не перекрутилось, чтобы вышли клубки ровной, непорченой пряжи. Одним из клубков был муж. Муж – отец ее сына, мужчина, которого она ставила выше прочих людей на земле, который был ее первым любовником. И который стал центром ее мира. Она жила его жизнью, и все прочее было не в счет.
Кроме трех слов.
Финистер. Небо чистое.
Лето было прохладным. И в середине июля никак не признавало того факта, что все вокруг устали от бесконечных дождей. Как и Эдит, погода оказалась большой любительницей крайностей.
Чувство, державшее ее в тисках, названия не имело. Слишком много всего оставалось за кадром. Слишком мало находилось на поверхности, чтобы хоть что-нибудь понимать. Только колеса крутились по влажному шуршащему гравию. И неизменен был запах океана, впитанный с раннего детства. Незабвенный, где бы она ни жила в последние годы.
Натан стоял ровно на том самом месте, где они расстались четыре года назад, в их последнюю встречу. Он был в штатском, и это показалось ей забавным – он отвык. Форма его в собственных глазах делала более значимым.
Еще один клубок жизни. Она точно знала, что Нэнв – ее лучший друг. Как знала и то, что даже дружба – в привычном значении слишком малое для них.
Его глаза болотного цвета вспыхнули радостью при виде ее, а когда она спрыгнула с велосипеда и отставила его к каменной изгороди, волглой и покрытой мхом, то почти сразу почувствовала горячие ладони на своих руках. Обернулась. И прикосновение превратилось в объятие.
- Я все гадал, поймешь ты или нет, – проговорил он хрипловато, торопливо, почти извиняясь. – Ничего умнее не придумал.
- Текст хорош, - рассмеялась Эдит.
- Я надеялся, что оценишь.
- Ты надолго приехал?
- Нет. Вечером нужно быть в Бресте, - помолчал, внимательно рассматривая ее мелкие тонкие черты с острым взглядом и точеными скулами, а потом добавил так, будто признавался в чем-то, чего нельзя сказать: - Я второй месяц в гражданской авиации. Теперь у меня тушенка вместо оружия.
- Это обнадеживает.
Это действительно обнадеживало. Думать о том, что начнись новая война, и его отправили бы в любую точку земли, было невыносимо. Он летает – разве этого не довольно после всего пережитого? Эдит медленно отстранилась и осмотрела его. Они были с ним почти одного роста. Она – слишком высокая для женщины. Он – ниже среднего для мужчины. Если бы она обула туфли на каблуках, то, конечно, оказалась бы выше его. Это было забавно, потому что в ее памяти он словно возвышался над нею. И проще думать об этом, чем о том, что он очень скоро уедет. Гораздо раньше, чем она могла бы надеяться.
- Это правда обнадеживает, - с улыбкой сказала Эдит. – Все что угодно лучше оружия.
- А еще я почти год был женат. Теперь развелся.
Это он выпалил так, будто боялся, что передумает и не скажет. Она вздрогнула. Задавать вопросы не хотела и не имела права. Но ведь он сказал сам…
- Почему?
- Я не умею пускать корни.
- Да, гораздо проще летать, когда ничего не держит на земле.
Теперь уже вздрогнул он. Ее слова прозвучали как обвинение, и она это понимала. Но взгляда не отводила, смягчать не хотела. Она никогда не была мягкой и не умела этого.
- Я знаю, - ответил Натан. – И ты знала. Наверное, потому все так, как есть.
- Наверное, потому.
Она очень прочно стояла на ногах. И до этого дня уверена была в двух вещах. Натан Нэнв не укладывается ни в одну известную ей систему, потому что никогда не станет жить так, как она ожидала от него. И Натан Нэнв прилетит к ней из любого места под небом, если она позовет. Теперь выяснилась третья вещь, в которой она могла быть уверена. Натан Нэнв знает, почему она, Эдит Дуар, прочно стоит на ногах и не позволяет увлечь себя куда-то ввысь. Он держит дистанцию точно так же, как и она. Едва ли это дается ему легче, чем ей.
- Моему Жан-Люку три года, - странно глухим, сухим и пресным голосом сообщила Эдит. – Он любит море и бредит самолетами. Не знаю, кто из него выйдет. Летчик или моряк.
- Кого предпочла бы ты?
- Механика или дипломата.
Когда в жизни все устойчиво и надежно, неизменно тянет в маленькое безумие. Наверное, это сожаление о том ребенке, который остался внутри, чьим мечтам не позволили исполниться. Эдит невольно всхлипнула и отвернулась, вглядевшись в дорогу. Она слишком много теряла в своей жизни, чтобы позволить себе лишиться того, что важно.
Сэм – важно.
Жан-Люк – важно.
Натан…
Его она теряла однажды.
О потерях Эдит знала все на свете.
Когда ей было четырнадцать, она за два дня лишилась сначала отца, ушедшего воевать. А потом и матери, умершей тихо, во сне, будто бы и не умирала, а просто легла спать. Эдит тогда долго думала, что спать больше не сможет никогда. Краткие провалы в черноту там, где сон заставал, измучили ее за несколько месяцев. Потом она оказалась у Маэлы и снова училась читать на ночь молитвы и забираться под одеяло.
Она оказалась сильнее, чем сама себе представляла. Мнимая гибель Натана Канадца ее не убила. Но перемолола внутри все, что еще было в ней от ребенка. Четыре года назад она ехала в Финистер с твердой мыслью, что прошлое ее отпустило. Все, что осталось – дань памяти. Самоуверенность была свойственна ей в двадцать с лишним лет. Но, может быть, это лишь оттого, что ей рано пришлось повзрослеть.
14 июля 1946 года. Первое мирное 14 июля на земле. Прошлое она провела в Париже, целовалась с солдатами, впервые увидела Сэма. И влюбилась в него без оглядки. Он был смешной и трогательный. Боялся попасть в Японию и фотографировал все, что под руку попадется. Львиная доля фотографий того дня оказалась в ее альбоме. Тогда она еще не думала ни о чем, не могла думать. И даже не пыталась думать. Устроилась в швейную мастерскую и дни коротала над машинкой. Потом одна из клиенток прищелкнула языком и попросила примерить платье, которое шилось для ее дочери в подарок. Так Эдит в один щелчок стала манекенщицей. Они с Сэмом поженились. Наконец, закончилась война. Не только во Франции – везде.
И она с изумлением осознала – выучившись жить, ступая по минному полю, в мир уже больше не веришь. И этот излом в душе никогда не зарастет. Можно только заполнить его чем-то новым, чтобы не бояться упасть. И посеять цветы – они скрасят ландшафт.
Маэла встретила ее во дворе. Почему-то плакала и страшно сердилась, что Эдит не приехала раньше. Эдит гладила ее по плечам и тоже сердилась – подобные приветствия ее раздражали. И она не любила слез.
«Ты хуже утесника! - ворчала хозяйка. – Такая же колючая!»
«О тебе можно сказать то же самое».
Вымотанная дорогой и вечерней перебранкой с Маэлой, она отправилась спать очень рано. Сны ей снились такие же беспокойные, как суета, завладевшая каждым ее днем. Впрочем, суете она не сопротивлялась. Она хотела веселиться и только. И если раньше думать она не могла, то теперь – боялась. Финистер растревожил ее. Золотой утесник – растревожил. Здесь оживали старые мысли, а она избегала всего старого – оно было безвозвратно ушедшим. Что толку возвращать? Что толку думать о возвращении? Но тогда на кой черт принесло ее в Пон-Круа спустя столько времени?
Впервые ответ на этот вопрос явственно прозвучал в ее голове этим утром. И она с удивлением осознала, что давно уже знает, зачем ей обязательно нужно было вернуться сюда.
Убедиться, что все действительно кончено. Поставить точку. Перестать терзать себя надеждой: а вдруг ошиблись, вдруг жив? Прекратить мучиться тем, что могло бы быть. Понять, что прошлое не бывает важнее настоящего. Прошлое должно, обязано отпускать, иначе для чего нужна жизнь?
Она ошиблась. Иногда жизнь дана для того, чтобы помнить. Это стало понятно еще до наступления полудня.
В семь часов она показалась в столовой. Маэла накрывала на стол и глаз не поднимала.
- У нас сейчас здесь очень мало людей, - сказала хозяйка, будто они и не ссорились. – Их и в хорошие-то времена много не бывает. Попомни мое слово, еще несколько лет, и город опустеет совсем.
- Я сюда не вернусь, - упрямо ответила Эдит, усаживаясь на стул. Перед ней стояла высокая горка блинов, которые Маэла пекла лучше, чем в любой крепери по побережью.
- Будто бы я об этом прошу. Что твой Сэм?
- У него выставка через неделю, очень занят.
- Значит, и тебя через неделю здесь не будет.
- Я не пропущу его первую выставку.
Маэла поджала губы. Но тут же растянула их в улыбку.
- Зато он пропустил этот твой день. Потери равнозначны.
Эдит пожала плечами и налила кофе из кофейника.
Часом позднее она неспешной походкой отправилась в Гульен. Велосипед брать не стала. Это была просто прогулка. Это ни минуты не было порывом непогасшей надежды. И каждый раз, когда шаг ее становился более частым и резким, она заставляла себя замедлиться. Косынка на ее светлых волосах съехала. А она щурилась от яркого солнца. И старательно следила за тем, чтобы в голове не было ничего, кроме того, что видят ее глаза. Восемь километров в одну только сторону. Этого хватит, чтобы больше не возвращаться.
Сначала она ощутила дрожь в ногах, быстро распространявшуюся по всему телу, достигнувшую горла, из которого с той же дрожью вырвалось:
- Нэнв!
И уже потом поняла. Нэнв.
Он стоял ровно на том месте, где они расстались три года назад. Гульен еще не показался из-за деревьев – он начинался сразу за небольшим леском. Они замерли у этого леска. Тогда. И теперь. Только тогда была ночь, а теперь еще только утро. Он был в форменной куртке, болтавшейся на нем, будто на размер, а то и на два больше. И в фуражке с шевроном Королевских военно-воздушных сил. На гладко выбритом лице никакой улыбки, хотя она помнила чаще всего именно его улыбку. Не сейчас. Сейчас только волнение и робость отражались в его глазах. Он рванулся к ней, а она отступила на шаг. Это первое мгновение она помнила еще долго – зачем она отступила? Дала себе время подумать? Секунда, которой хватило, чтобы он замер и не двинулся с места. Вот так и становятся друзьями. И почему все лучшие истории о любви – не о дружбе?
- Нэнв… - шепнули ее губы в то мгновение, как Натан Канадец застыл в растерянности на дороге.
- Я же говорил, что приеду к тебе, Дуар! – сказал он слишком громко для этой минуты. И улыбнулся.– Четырнадцатое июля в первый год после войны – твое.
- Нэнв! – выдохнула она.
И только после этого они обнялись – крепко-крепко. Как положено друзьям после долгих разлук. Он держал ее за руку, ощущая холод золотого обручального кольца на безымянном пальце. Она целовала его щеки, как будто бы только что снова закончилась война, смеялась, рассказывала, как три года считала его погибшим. В ночь его побега у Крозона поймали канадца, пытавшегося уйти на лодке, и расстреляли при задержании – живым он не дался. Много ли могло быть канадцев на лодке, чтобы это оказалось совпадением? Но Эдит все же прислушивалась к разговорам, надеясь узнать имя и отказываясь верить.
Это уже потом она остригла волосы по плечи, подкалывала их у висков шпильками и надевала, сдвинув набок, темно-синий, почти черный берет. Но об этом знать Натану было не нужно. Ему нужно было держать ее за руку и почти взахлеб говорить-говорить-говорить, чтобы не оставалось места молчанию и сомнениям.
- Не погибают такие, как я. У меня на счету двадцать четыре самолета. Могло быть больше, но уж как есть.
- Тебе все мало.
- Есть герои удачливее… Меня дважды сбивали. Первый раз – твой. Второй – над Мессинским проливом.
- Еще и хвастун. Тебе понравилась Италия?
- Понравилась.
Ему нравилось все на свете. Удивительная черта, которой она немного завидовала. Ему до всего было дело. Он все на свете любил и хотел. И никогда не сидел на месте, даже если спускался на землю с небес.
Если подумать, то он и пришел к ней с неба в конце весны 1943 года на сбитом «Галифаксе» 405 эскадрильи бомбардировщиков канадских ВВС. Его ноги и руки сильно обгорели, и несколько недель Маэла прятала его у себя на чердаке, покуда он не поправился.
Эдит приносила ему поесть и новости из городка. Он очень долго не мог держать в руках ложку. Приходилось его кормить. Он виновато улыбался, а она таяла от этой улыбки. Первый мужчина, которого она полюбила. Или первый мужчина, который ее заметил? Впрочем, разве тогда это имело значение?
Его загорелое лицо было покрыто мелкими оспинками. Черты же казались ей крупными, резкими, неправильными. Бугристый крупный лоб такой, что можно подумать, будто он рано начал лысеть, хотя все дело заключалось лишь в том, что мысок волос был слишком высоко. Брови темные, темнее отросшей русой шевелюры. Глаза чуть навыкате, отчего казались широко открытыми. Но замечательного цвета – грязно-зеленого, болотного. Если забыть все на свете, то глаза его не забудутся. Горбатый нос на таком лице всего лишь закономерен, но едва ли слишком примечателен.
С ума она сходила по его губам – нижняя чуть выпячена, верхняя – почти незаметна. Они были тонкими и бледными. И почти всегда смеялись.
Первый и последний раз эти губы поцеловали ее 14 июля 1943 года. В день, когда они попрощались.
До этого самой большой задачей было придумать, как увезти его из Франции.
- Он не может жить здесь до бесконечности, - временами ворчала Маэла, поглядывая на Эдит, и уверенная в том, что Натан слышит ее на своем чердаке. – Уходит ночами. Не объявляется сутками. Потом приходит грязный, голодный. У меня, конечно, гостиница, в которой давно никто не живет, но за окнами бродят эти! Нам еще повезло, что никого сюда не расквартировали!
«Этими» она называла немцев. Только так и не иначе.
Эдит отрывалась от своей вышивки и пожимала плечами. Она боялась не пережить того дня, когда Натан уйдет. Смешно. В городке, пожалуй, только одна хозяйка гостиницы и не догадывалась, что тот самый Канадец из Кемпера, чья группа освободила нескольких заключенных, приговоренных к расстрелу, это их Натан Нэнв. Впрочем, Эдит подозревала, что Маэла разыгрывает неведение. Довольно того, что у них временами живет канадский солдат. Да и у страха глаза велики. Имея за душой тайну, недолго решить, что тайна известна всем.
Утром 14 июля они с Маэлой закрыли двери, задернули шторы и никуда не выходили. Хозяйка хлопотала на кухне, Эдит старалась ей не мешать. Радио не включали. В доме стояла оглушительная тишина. Потом Маэла достала бутылку поммо из хороших времен. Быстро налила в стакан, осушила и протянула Эдит. Так их застал Натан.
- К чему это? – только и спросил он.
- Не могу видеть этих. Когда угодно, но не сегодня, - хохотнула женщина и отвернулась к плите.
Эдит повернула лицо к Канадцу и медленно опустила горлышко бутылки на край стакана. Он наблюдал за тем, как тот наполняется напитком, похожим на янтарь. А потом тихо сказал с улыбкой, игравшей на его бледных губах:
- Сегодня вечером будет салют. Откроете окна.
- Иногда я думаю, что салютов уже никогда не будет, - хмуро отказала Эдит.
Нэнв хмыкнул и снова ушел наверх, на свой чердак.
Поздно вечером, когда в Пон-Круа стало совсем темно, входная дверь скрипнула. А Эдит, ведомая неизвестно каким порывом, выскользнула из постели и бросилась к окну. Прошел час. И ночь навалилась на нее со всей силой, какая в ней была. К исходу подходил второй. И Эдит, уронив лицо на руки, только молилась – сама не зная кому и о ком.
А потом был салют.
Было даже лучше салюта. На мгновение ей показалось, что стены дома ее пошатнулись от страшного грохота, за которым она не слышала собственного вскрика, но была уверена, что точно так же сейчас в другой комнате вскрикнула Маэла.
И впервые в жизни Эдит увидела такое небо – объятое алым заревом. Дышать забыла. Прижимала руки к губам и уже не молилась. Глядела на столб огня и дыма. Боялась за того, кто ей не принадлежал. Но за того, кто стал ей дороже всех людей на земле.
И понимала, что вот теперь и проснулась. Озаренного пламенем неба хватило. Канадский летчик, воевавший за французов в войне уже побежденных. И дом его теперь был в огне.
Наверное, тогда, в ту самую минуту, она похоронила и его, как до этого схоронила отца и мать. Наверное, тогда смирилась с тем, что никогда ей уже не летать. Тогда вросла в землю с корнями. Тогда в действительности для нее и началась эта война.
Эдит бросилась к шкафу и быстро оделась. Заплела волосы в косу, скрутила узлом на затылке. Времени не было, она это знала. Потом спустилась вниз, на первый этаж, по лестнице, на которой всегда, сколько она себя помнила, отчаянно скрипели ступеньки. Остановилась посреди прихожей. Обула башмаки. Села на стул. И стала ждать.
Долго теперь уже ждать не пришлось.
Он влетел в дверь и взглянул на нее. Они ничего не говорили. Она только кивнула. Он метнулся на свой чердак, забрал оттуда сумку, которую держал наготове. Снова сбежал вниз по лестнице, конечно же, растревожив еще больше Маэлу.
Потом Эдит выпустила его из дома, вышла следом, закрыла замок своим ключом.
- В Гульен, - едва слышно проронил он, - там лодка.
- Что это было?
- Вчера на станцию из Дуарнене привезли боеприпасы, а перевезти не успели. Теперь перевозить нечего.
Они снова ничего не говорили. Просто шли рядом. Он держал ее за руку. А она старалась думать о том, что ладони у него большие и горячие. Но не о том, что видит его в последний раз. Знала, что задохнется, едва подумает. Потому дышала размеренно, захватывая побольше воздуха, пропитанного ароматами вереска и лаванды.
Вроде последнего препятствия, за которым скрывались крыши Гульена, был лесок. Там и остановились. Он крепко сжал ее в объятиях и зарылся лицом в пушистые светлые волосы – в те времена он был выше ее.
- Зря ты со мной пошла, - его голос звучал так глухо, что она скорее угадывала слова: - Назад еще опаснее.
- Дойду, никто не тронет.
- Обещай.
- Захочешь вернуться – найдешь меня в целости и добром здравии. Клянусь.
- Я вернусь. Закончится война, и я женюсь на тебе.
Она крупно вздрогнула в его руках. Он оторвал лицо от ее макушки и заглянул в глаза. На губах его была улыбка. Снова. Эдит точно помнила, что в этот вечер он улыбался впервые.
- 14 июля в первый год, когда не будет войны, на этом месте. Я буду тебя ждать.
- 14 июля в первый год, когда не будет войны, - повторила она, понимая, что эти слова врезаются в ее душу – почти болезненно. Закусила губу и вдруг спросила: - Спустишься ради меня на землю?
- Нет, подниму тебя в небо.
Это звучало не молитвой, не клятвой, не надеждой. Это звучало концом.
Потом он снова наклонился к ее лицу и поцеловал. Коротко и жарко.
- Прощай, - шепнул он ей в губы.
Сил ответить ему у нее уже не было.
Теряя его раз за разом, она так и не научилась с ним прощаться. Она не знала, какая она, когда настоящая. Она знала только, что не может заставить себя не ехать, получая телеграмму на имя Эдит Дуар. «Финистер небо чистое». Она никогда не задавала себе лишних вопросов. Она принимала жизнь – лицом к лицу. И верила, что только так и можно жить.
Только вся жизнь измерялась несколькими встречами возле Гульена. Из всей жизни – останутся только они. Потому что именно там она и жила.
14 июля 1962 года Эдит Дуар сжимает пальцами руль. Дорога, которую пешком она проходила почти за два часа, а на велосипеде проезжала минут за сорок, теперь занимает совсем немного времени. Запах духов, исходящий от нее самой, и запах бензина перебивают аромат полевых цветов. Она может только смотреть. И вспоминать, как они пахнут.
Ее волосы, модно подстриженные, разметались по плечам. Подкрашенные помадой губы кривятся – она думает о том, что зря красилась. Но это привычка, с этим трудно что-то сделать. В доме под серой крышей, названном почему-то Желтой Мельницей, косметика и платья со страниц журналов неуместны.
Жан-Люк остался в Париже и не приедет.
Сэм собирает материал для новой книги и пропадает в издательствах. Он больше не экспериментирует со светом. Он экспериментирует со словом. И забыл, как выглядит его жена.
Маэла открыла при гостинице еще и пекарню, приторговывая пирогами, надеясь этак поправить свои дела.
Это ее земля. Она – такая.
Эдит путешествует одна, чувствуя головокружение от свободы. Но дышать полной грудью она все еще не может. И не сможет, пока не увидит Натана на прежнем месте, где лес скрывает крыши Гульена.
Теперь им не нужны телеграммы. Теперь он всегда здесь, она может приехать в любое время. И приезжает. Каждый год 14 июля. Каждый год клянется, что прекратит мучить и себя, и его, что-то, в конце концов, решив. И каждый год ничего не может решить.
Трудно рвать связи, протянувшиеся через десятилетия.
Но десятилетия она измеряла не датами на календарях, а днями в Гульене.
Ей уже не восемнадцать. Ей тридцать семь. И она любит Натана.
Натан – давно уже не Канадец. Он изображает из себя фермера. И любит Эдит.
И это ее небо. Оно такое.
И вся ее жизнь – это путь из Парижа в Кемпер. Из Кемпера – в Пон-Круа. А из Пон-Круа – по этой самой дороге, среди дрока и вереска.
До того мгновения, как она видит Нэнва, стоящего ровно в том месте, где оставила его. Он машет ей рукой и легко улыбается, но только она знает, что за этими его улыбками. Она останавливает машину, выходит из нее и направляется к нему, досадуя, что обула туфли на каблуках. Ее взгляд жадно изучает его фигуру. И ей кажется, что он злоупотребляет сладким и жирным. От этого смешно и легко.
Она подходит все ближе. И протягивает ему ладонь. На безымянном пальце больше нет кольца. Он этого, кажется, и не замечает. Он обнимает ее, зарываясь носом ей в волосы. Она с улыбкой шепчет: «Нэнв…» И смотрит куда-то прямо перед собой. Ей кажется, что в это самое время видит край света, где Небо встречается с Землей.