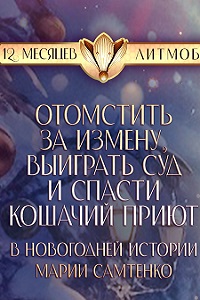Крутой ченч
Крутой ченч
Гром и молния!
Ведь вспыхнут уже скоро для меня одного гром и молния на грозовом небе, и громким колоколом судовой тревоги протрубят, на главный суд призывая. А я так до сих пор и не поведал миру о тех удивительных событиях, что произошли со мной, и моими товарищами много лет назад. И не по их просьбе (признаться, я растерял уж их всех по жизни), и не по просьбе капитана, старшего механика, или дамы их сердец, а также радиста, но исключительно по своему почину сажусь я пригвожденный ныне домашним заточением всемирной эпидемии за перо. Чтобы правдиво рассказать о том, что бурлило и искрилось под винтами судьбы, а теперь уж превратилось в память, но да останется потомкам этими строками.
И никаких в сем правдивом повествовании случайных совпадений и вымышленных персонажей – все по-честному.
Глава 1.
Глухой ночью.
Неприметная черная ночь, коих минуло уже сотни морском рейсе, висела над потрепанным атлантическими ветрами, местами обильно буреющим ржавчиной, судном, что мерно тянуло трал в глубинах темных вод.
- Ребята, подъем! На вахту, - внятно произнеся положенное, будивший поспешил скрыться за едва приоткрытой дверью.
Нетвердым движением натруженной руки нащупал я кнопку надкоечной лампочки, и через мгновение замкнутое пространство зеленой, в желтую полоску, шторки и переборки, с личными фотографиями в рамке расписания по тревогам, озарилось тусклым желтым светом. Впрочем – и он в этот миг резал глаза.
Свет был очень важен сейчас. Свет – это хоть какая-то гарантия того, что усталые веки не сомкнутся опять, и не впадет изнуренный нескончаемой чередой вахт мальчишечка в сонное забытье, которое уж обязательно окончится громогласным ревом: «Лёха - мать твою, перемать! – там уже короба на транспортере до самой упаковки стоят!».
Бывало и такое! Не в этом, правда, рейсе.
Хоть и насилу, но разлепил-таки я тяжелые веки, тотчас наткнувшись сонным взором на деловито ползущего по переборке таракана.
«Ну, тебе-то что не спится, черт усатый? Ты же – свободная тварь: спал бы себе еще! Это я – человек подневольный… Да, какой там человек: матрос просто!».
Я всегда твердо верил, что у всех живых существ есть душа. Отчего, когда ловил мух на лету рукой (большим слыл в том умельцем – отличное упражнение для развития реакции, даже без оглядки на чемпионские мои титулы по каратэ), то махом выбрасывал в иллюминатор: «Лети, и чтоб больше здесь я тебя не видел!». Когда же погода была свежей, отчего «люмитра» задраивалась наглухо, то и тогда рук не марал: изловив назойливую, пускал ее со струей воды в умывальник – пусть бурный водоворот судьбы вынесет двукрылую на счастливую отмель.
Как говорится: «Доживите до старости с чистыми руками»!
Но таракан – немного иное дело: он так в тот самый момент, когда проваливаешься в сладкий блаженный сон, под одеялом жиганет – укусит, что подскочишь натурально – как ужаленный. А потом еще не один день чесаться укушенное место будет. Так что, с тараканами в одной каюте миром жить не получалось.
Так что, не без угрызений совести пристукнул я Тарасика кулаком и поднялся.
Был тот собачий час суток, когда и ночь с утром-то не могут еще разобраться – кому вахтить на белом свете? Календарно начинался обычный промысловый день на большом нашем автономном траулере морозильном. И ничего особенного вроде не предвещало мне и моим товарищам - все было, как обычно. Плелись в цех наши, шустро и весело, с избитыми шутками, покидали его матросы смежной бригады.
А двумя палубами выше старший механик, под безмолвные взоры невольных слушателей - моториста и электрика, - скомкал и в сердцах швырнул теребимую салфетку об пол.
- Я люблю, люблю эту женщину! А эта скотина... Я убью его!
И скупая слеза катилась по обветренной щеке теперь не утертой…
И возможно, еще палубой выше, в капитанской каюте горела свеча, и слов здесь попусту не тратили, но – чего не знаю, за то не ручаюсь: свечи той я не держал…
Промысловая палуба занялась гулом лебедок – началась выборка трала на борт. И белые чайки, почуяв скорую добычу, крича, вились за кормой.
Какие то были годы? Самая середина девяностых прошлого столетия. Где только чайки – да и то, в заморской стороне, – ангельски белокрылы и чисты.
Глава 2.
Тамбурная вотчина.
Через шесть с лишним минут, не представляющих никакой художественной ценности повествования, я уже закрывался за железной, водонепроницаемой дверью тамбура первого трюма.
За бронированной дверью открывалась моя трюмная вотчина. Мой юный сменщик здесь тоже имел некоторые свои права – по моей, в первую очередь, милости.
Здесь мы переодевались. На тянувшихся во всю длину тамбура концах (в море нет веревок – только «концы») висели сейчас два комплекта моей трюмной одежды, один из которых я надевал в первые четыре часа – до перерыва на «чай», второй – после. Да, джентльмены – я был совершенным трюмным аристократом!
И во всем, во вверенных мне помещениях, был свой разумный смысл.
В потаенном от случайных глаз месте – за электрощитом – было заткнуто пара запасных перчаток и рукавиц, и книга – «Тартарен из Тараскона», бережно, как научила в детстве мама, обернутая в рукодельную газетную обложку. Почти каждую вахту почитывал я несколько страниц во время случайных остановок рыбцеха, или во время плановых, чтоб чуточку отогреться, подъемов на «перекур».
Эти благословенные минуты, когда вытолкнув - подняв головой деревянную крышку трюмного лаза, вылезал в тепло тамбура! Тогда, сбрасывая с рук суровые рукавицы и снимая белые вязаные перчатки, я двумя-тремя дыханиями согревал озябшие кисти рук, тем временем уже пробираясь к электрощиту с заветной книгой. Ехали мимо по транспортеру короба, с привычным стуком падая на лоток, ведущий в трюм, и я, как хороший музыкант, определял по звуку, сколько еще места осталось на лотке. Я услышу, когда они встанут у самого верха – и тогда надо будет уже спускаться. А пока – пока есть несколько минут на кое-какой отогрев и вдумчивое чтение: даже то, что с прокаленной морозом фуфайки градусы холода уйдут – и то мне подмога!