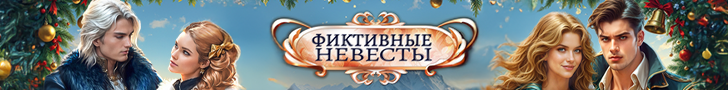Кукушонок
Кукушонок
Сергуня вел из леса индейца в шубе. Так сперва показалось Егорычу. Удивился еще, чего тот в июле шубу напялил – жара второй месяц такая стоит, что и рубаху-то надевать не хочется. Индейцам тоже на Вологодчине делать, вроде как, нечего. Разве что кино снимают, так опять же, здешние места не шибко на Дикий Запад смахивают. Да и Сергуня еще тот Следопыт. Хотя как сказать – чем похмелиться, даже в лесу нашел, вон, идет, спотыкается.
За Сергуню у Егорыча сердце болело. Все-таки десять лет уже вместе, с тех пор как соседи, Петр с Тамарой Костюхины, сгинули. Пацана их десятилетнего в детдом хотели сдать, а Егорычу вдруг так горько сделалось: Сергуня и без того был детдомовским, его Костюхины в четыре годика взяли, и вот, только привык мальчишка к нормальной жизни, а его опять в неволю. А он, Егорыч, одинокий, дом большой, огород, хозяйство – даже если только своим кормиться, и то на двоих за глаза хватит. К тому же сам он хоть и не особо общительный, зато трудолюбивый и непьющий, пример для парня хороший.
Егорыч вздохнул: не стал брать с него Сергуня пример. Еще в старших классах начал к бутылке прикладываться, а уж теперь… Ни беседы задушевные, ни ругань не помогали – видать, имелась у приемыша тяга к алкоголю в крови, не иначе, от родичей своих непутевых перенял, поди узнай теперь. В остальном, правда, Сергуня был не таким уж пропащим – внимательный, добрый, а уж любознательный – жуть! Всюду нос свой сунет, куда надо и нет.
Вот и теперь, похоже, сунул куда-то. Пошел за грибами, а вернулся с индейцем. Хотя, стой-ка… Сергуня и тот, кто вышагивал рядом, приблизились уже настолько, что Егорыч понял: на индейце вовсе не шуба. Это был мех рыжевато-бурого цвета, но не снятый с убитого животного, а растущий на самом инде… Да нет, какой же это индеец? Носик маленький, как пуговка, глаза поросячьи, с белесыми ресницами, рот тонкогубый, будто кто ножиком ткнул да щелку прорезал. И само лицо слишком уж белое, словно тесто. Не бывает таких индейцев. А похож был издали потому, что перья на голове. Но теперь Егорыч видел: и они не воткнуты в волосы, а тоже растут сами – как раз вместо волос.
– Ты глянь, Егорыч, глянь! – подойдя к крыльцу, замахал Сергуня руками. – На вот этого глянь-ка!
– Гляжу и так, – сказал Егорыч. – И на того, и на этого. Ты где набраться-то успел?
– Да че я, че я, – залопотал приемыш, – ежели вон че тута!
– Где нашел-то это чудо в перьях?
– Как ты его! – загоготал Сергуня. – В перьях, ага, чудо-то! Близехо тут шарился, за Марьиной вырубкой. Я ему: «Ты кто?», а он: «Херта перта!» Думал, материт меня, хотел уже в рыло дать, а он затрясся, закорячился и стонет не по-нашему. Че думаешь? Не китаец он? Слыхал, в райцентр китайцы понаехали.
– Сам ты китаец прибухнутый, – сказал Егорыч, – глаза уже от пьянки в щелочку. – И отвернувшись от приемыша, кивнул шерстистому чуду: – Ху ар ю?
Чудо и впрямь затряслось, но явно не от страха, видимо, так оно придавало словам больше значимости. Вот только от самих слов толку было мало. Они и на слова-то не были похожи, скорее, на рычание с придыханием:
– Хх'эрртх'э пх'эрр эхх'арр х'эээ.
– Ишь, стонет! – горячо зашептал Сергуня. – Говорю же. Не китаец, так, может, швед какой. Шведы тоже в райцентр приезжали.
От «шведа» сладковато пахло бензолом. Егорыч поморщился:
– Не человек это. Веди туда, где нашел.
– Ты че, ты че? – засуетился Сергуня. – Куда я его? И как он не человек-то? Вон, у его руки, ноги! И стонет ротом.
– Сейчас ты у меня ротом застонешь, – насупился Егорыч. – Сказано, веди! Чужой это, пришелец.
– Чужой? – заморгал приемыш. – Че, как в кино?
– Как в мультике. Ты еще здесь?
– Не-не, погодь, Егорыч! – опять замахал Сергуня руками. – Ежели это пришелец, надо сюда с райцентра телевиденье звать! У тебя ж есть телефон губошлепки ушастой – приезжала зимой-то, когда ты Ваську Матлюгина из проруби вытащил. Дай, я на угор сбегаю, звякну.
– Это ты губошлеп! Какое телевидение? Чего тебе дать? Пендаль под зад?
– Трубу дай, на угор сгоняю, говорю же! Здесь не ловит ни хрена.
– А свою куда дел? Опять Маньке-продавщице за бутылку втюхал?
– Не втюхивал я! – возмутился Сергуня. – Как залог оставил. Или че там? Беспроцентный кредит! Ща везде так.
– Чего? – пронзил Егорыч приемыша взглядом. – Кредит? Залог? А какими шишами ты его выкупать собрался? Моей пенсией? Или алкашам-тунеядцам зарплату стали платить, а я не знал? Как хочешь теперь свой телефон возвращай, на меня не рассчитывай. И свой не дам.
Но потом все же дал, пригрозив Сергуне безвозвратным выселением, если пропьет. А дал потому, что подумал: это и впрямь неплохой вариант. Прибудут корреспонденты, пустят в эфир сюжет, и кто-нибудь да приедет за этим мохнатиком в перьях. Пусть забирают, нечего ему тут делать, Сергуня если в лес и отведет, тот ведь опять может вернуться.
Чтобы до приезда телевизионщиков пришелец не мозолил глаза, Егорыч запер его в сарае. Что удивительно, из райцентра приехали уже через пару часов – видать, на свежие темы возник у них дефицит. Прибыла корреспондент – та самая девица с оттопыренными ушами – и прыщавый юнец-оператор с очень дешевой на вид, может, и вовсе любительской камерой. Егорыч без лишних слов повел их к сараю. Открыл замок, распахнул дверь, а там… У задней стены были выломаны доски. Пришелец, разумеется, сгинул.
– И где ваш леший? – насупила брови корреспондентка.
– Кто? – переспросил Егорыч, шаря взглядом по темным углам сарая.
– Вам лучше знать. Из вашего звонка трудно было что-то понять: чудо в перьях, нашел в лесу, мычит и стонет не по-нашему… Сейчас я буду стонать, что повелась на этот развод.
– Это не я звонил, – буркнул Егорыч. – И то был не леший, а…
– Херта перта! – раздалось позади так громко, что ушастая девица подпрыгнула.
Егорыч резко обернулся. Возле сарая скакал, изображая макаку, пьяный Сергуня. Голый, неравномерно покрытый мехом и перьями. И продолжал орать, стуча кулаками в грудь:
#12784 в Фантастика
#1566 в Научная фантастика
#747 в Юмористическая фантастика
Отредактировано: 04.06.2023