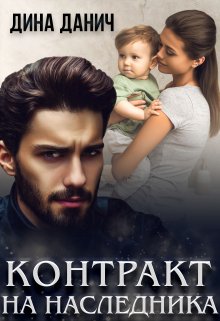Лешкино
Лешкино
Любая географическая карта говорит с нами. Она многое может поведать пытливому уму, рассказывая названиями городов и поселков, намекая именами речек и шепча прозвищами лесов. Названия даются не просто так, за каждым - своя история, свой резон. Однако людская память коротка, и совсем скоро названия становятся просто словами. Те, кто знал, что стоит за именем, уходят. Молодым, не знакомым лично с участниками и обстоятельствами, которые дали повод возникновению названия, просто неинтересно. Лишь фанатик-краевед сможет что-то рассказать про Мышиный холм, Вонючую реку и камень Кабаний Бог.
В моей любимой Латгалии практически все географические названия появились не на пустом месте. Какие-то ведут свою историю из седой древности. О возникновении же некоторых я узнал от тех, кто участвовал в рождении названия. Эти слова на карте - немые свидетели моего детства и юности, и до сих пор они дарят тепло моей душе. Слыша их, я возвращаюсь в то время, когда краски были ярче, звуки - звонче, и воздух пился совсем по-другому.
Неподалеку от деревеньки Рудушки есть лес. Точнее - лес в лесу. Среди моря сосняка и ельника, что зеленой лохматой шкурой покрывают крутые спины латгальских холмов, широкой подковой лежит остров лиственного леса. Размером километров пять в ширину и столько же в длину, он состоит из дубов и громадных осин, среди которых белыми струнами мелькают стволы берез. Местами непроходимый из-за густого подлеска из буйных зарослей орешника, местами - светлый и чистый, лес этот - рай для грибника. С середины июня и до октября здесь растут лисички. Нет, не так - Лисички! Огненно-оранжевые петухи вырастают до гигантских размеров, оставаясь при этом нежными и восхитительными на вкус. И в количествах, недостижимых для иных мест. Таких грибов я не видывал более нигде - возможно, это особая порода грибного племени. Или, может быть, некая аномалия заставляет их расти такими неординарными, не знаю - но факт есть факт.
Зовется тот лес - Лёшкин лес, или короче - Лёшкино. За легкомысленным названием стоит мрачная история, о которой я знаю из первых рук. Ее и расскажу.
Надобно тут понимать, на фоне какого ландшафта происходили описываемые события. Сразу после войны принялись власти в нашей местности народ из деревень по хуторам расселять. Эксперимент такой в республике проводился, проверяли эффективность полноценного личного хозяйства в лоне колхоза. Сказано было - “расселяйтесь” - и стал народ, со скрипом, да с разговорами некрасивыми и даже где-то крамольными, свои избы и дворы по бревнышку разбирать, чтобы потом в новом месте заново отстроится. Одно было хорошо - везти добро было недалече, участки под хутора выделяли в окрестностях бывшей деревни. Остались соседи соседями, только расстояния увеличились.
Ежели бы вот вы, к примеру, вышли бы из Рудушек и направились на юг, то, протопав полдороги до нашего хутора, увидали бы слева на опушке подворье. Жил там Лёшка со своей женой. Был тот Лешка мужик, как мужик. Работал себе в колхозе каким-то мелким начальником, любил рыбалку и был не дурак закинуть за воротник. Бывало, - чего уж там!, - выпивал крепко, даже в запои уходил, но всегда вовремя возвращался. Налево от жены не гулял, на соседей не стучал, лишнего от колхозного хозяйства себе не брал. В общем - ничего особенного, как все.
Жена Лешкина, крепкая тетка лет сорока, трудилась раньше продавщицей в сельпо. Какое имя было у Лешкиной супружницы, многие и не знали вовсе, звали все на деревенский манер по имени мужа - Лёшиха. Работу свою терпеть не могла, хоть и была ее должность весьма хлебной во времена всеобщего дефицита. Пользовалась она любой оказией, чтобы от работы той отлынить. Единственное, что в труде своем беззаветно любила, так это зарплату. Вот если не надо было за прилавком стоять, да покупателей постылых обслуживать, а только капали бы целковые на сберкнижку - такая работа пришлась Лешихе по вкусу. Но советская власть страсть как не любила лодырей, и в этом расходились их с Лешихой стремления в диаметрально противоположных направлениях... И надо же было так случиться, что захворала Лешкина жена. И серьезно - чуть ли не при смерти оказалась. Долго таскалась по докторам и дали ей в конце концов желанную группу по инвалидности. Более она не работала нигде, получала пенсию и вела хозяйство. После того, как заимела Лешиха свидетельство о нетрудоспособности и причитающееся денежное пособие, все ее болезни как рукой сняло - скакала, что твоя кобыла. А ведь болела всерьез - тогда нужное решение врачей было не купить.
Никто из местных этой болезни и чудесному выздоровлению и не удивился ни разу.
Ведь была Лешиха ведуньей.
К этому можно относиться как угодно, но только не легкомысленно. Болтали, что болезнь ее, вполне натуральная, имела причину своего происхождения весьма мистическую. Также, впрочем, как и внезапное исцеление.
Скотина ее никогда не болела. Коровы ходили по лугам без привязи и оград, ночевали в поле и приходили на дойку сами по молчаливому зову хозяйки. Ни разу ни один волк не покусился ни на корову, ни на козу, ни один хорек или лисица не переступили порог лешкиного курятника. Да и сам Лешка, страшный и буйный в запое, ласковым телком шел к жене, стоило ей только поманить. Та, дав мужику немного воли в его общении с зеленым змием - дня два или три, - возьмет, бывало, пьяного Лешку за локоть, шепнет что-то, и вот уже он трезвехонек, лопает нажористые похмельные щи.
Перебравшись в каменные города, человек многое приобрел. Комфорт, безопасность, удобство - список приобретений велик. Но и утрачено немало. Нет больше той связи с природой, с первородным естеством, что было раньше. Не всегда эта близость приносит благие плоды, но в вопросах понимания единства человека и мира она незаменима.
В городах мы огрубели. Как ни странно это прозвучит для утонченного хипстера, он, во всем своем павлиньем великолепии и с раздутым самомнением, намного грубее какой-нибудь неотесанной деревенщины. Горожанин не чувствует тех связей, тонких нитей, что связывают все сущее в пространстве и во времени, и поэтому ведет себя как слон в посудной лавке. Своими делами и поступками вольно или невольно рвет эти нити и тревожит не те, что нужно. У сельских жителей есть врожденное чутье, подкрепленное местной мифологией, на то, что можно делать, а чего не стоит.
Топаешь ты к примеру, по пустынной лесной дороге. На рыбалку или за грибами, а мож на лесосек - неважно, мало ли дел в лесу летом у человека. И вдруг под уже занесенной для шага ногой замечаешь ты круг, очерченный в дорожной пыли. Горожанин не задумываясь шагнет и почешет себе дальше. Сельский человек как от огня отдернет ногу, даже рискуя потерять равновесие и упасть. Только бы не в круг. Потому как знает - пересечешь черту в пыли, да и прилепится к тебе чужая хворь или еще какое лихо, а тому, кто со знанием этот круг начертил, полегчает. И невдомек горожанину, выслушав приговор врача или сидя в шоке у разбитого автомобиля, что расплачивается он за свою грубость и невежество.
Нашел чужую расческу или заколку - борони тебя бог прикоснуться к ней! Тот кто ее бросил, только этого и ждет. Маешся потом неделю от болей в животе или поноса с температурой. Очень может быть, что виной тому вздувшаяся банка тушенки или несвежие устрицы. Но, глотая пригоршнями аспирин вперемешку с активированным углем, будет, все же, совершенно не лишним заглянуть под кровать или выпотрошить подушку. Так как имеется большая вероятность обнаружить нечто, похожее на засохшие какашки, из которых торчат перья и волосы. Иголки иногда тоже торчат. Если уж нашел, то такую шнягу немедленно кочергой на совок - и в воду. Да не в подзаборную канаву - в воду вольно текучую. Унитаз тож сойдет…
А значит все это - сглаз на тебе был, и неслабый.
Кто-то над этим посмеется. Пусть себе веселится - в своем праве. Но поживи этот зубоскал в таком месте, как наша латгальская глушь, быстро бы понял, что юмора во всем этом мало.
К моей прабабушке, например, шли со всей округи. Кого-то одолела рожа, кто-то несет младенца, что ревет, не переставая, третий день вряд, у другого гадюка укусила корову. Да так, как змей любит - в вымя, и болеет бедная кормилица и подоить ее нельзя - молоко прямо в корове свернулось. Уйдет прабабка Надежда в красный угол, пошепчет под иконой, даст соли щепотку - рожа и сойдет, положит узкую сухую ладонь на лобик - и успокоится малыш. Даст воды склянку, корове вымя обмыть - пошло дело на лад....
Бабушка моя, дочка Надежды, так заговорила однажды мне ноющий зуб, что забыл я о том, какая она, зубная боль, лет на двадцать пять.
Нелегко это - за других просить, и болеет сама потом и день и два, а не помочь не может.
Но есть свет - значит есть и тьма. Есть нечто другое, древнее и черное, что прячется в глухих лесах, заброшенных домах и людских душах. И нет тут никакой борьбы света и тьмы, они равно имеют право на существование, вопрос сводится, как всегда, к человеку - что тебе ближе? Что откинешь, а что примешь? Заранее не предугадать.
В отличие от моих бабок-прабабок, Лешиха в своих заговорах и наговорах обращалась вовсе не к богу. Другая у нее была сила. Древняя, животная. Лешиху побаивались, но когда припрет - шли с дарами и с просьбами. Да с просьбами непростыми, как правило. Присушить кого, или, к примеру, плод в утробе извести. С такими, что к богу обратиться у самого отъявленного мерзавца язык не повернется.
Говорили, что за такие дела боженька детей-то им и не дал, так и коптили небо с мужем вдвоем.
Ради справедливости стоит заметить, что не они одни куковали на хуторе вдвоем.
Местность наша оскудела людьми уже в восьмидесятые года прошлого века. Молодежь подалась в города учиться, люди зрелого возраста поразьезжались на заработки. Такого запустения, как ныне, не было, конечно, но жили мои бабка с дедом в том еще медвежьем уголке.
Очень красив этот край. Ровной поверхности здесь не сыскать. Между нарытыми древним ледником холмами прячутся озера, чаще - невеликие размером, но удивляющие глубиной. Много здесь гранитных валунов, порой размером с избу - это гостинцы с севера, которые приволок с собой ледник. Леса в Латгалии тоже непростые - все здесь есть. Глухие ельники, где под сенью поросших мхом огромных еловых лап даже днем темно. Светлые пахучие сосновые боры. Звонкие рощи из осин и берез. Джунгли из разросшегося ольшаника и ивняка, перевитого плетьми хмеля.
Сейчас это абсолютно дикая местность, кишащая зверьем, в советское же время болота осушались, леса проряжались, а колхозные поля приходилось распахивать прямо на склонах латгальских холмов. Комбайнеры у нас были - не комбайнеры, асы! “Колосов” в колхозе не было, негде им было развернуться в тесноте холмов, но и зрелище “Нивы”, стригущей склон холма, накренившись почти на 30 градусов вбок, не для слабонервных. А уж проехать в вынесенной на немалую высоту кабине комбайна - тот еще аттракцион!
Был в нашем колхозе тракторист. Звали Иваном, но никто, кроме как Ванькой не называл. Шалопай и раздолбай. Душа светлая, но поручи что - в самом распростом деле найдет способ напортачить. Не со зла или по неумению - руки были золотые, а просто характер такой. Вот к примеру: дали раз задание - распахать участок целинного поля. Ничего особо сложного - участок ровный, полоса, идущая вдоль болота. Трактор мощный, исправный. Поехал Ванька, пашет себе. Вокруг безлюдно - леса, поля да болота с озерами. Тепло, светло. Лепота, курорт, а не работа.
А земля там жирная, черная - хоть на хлеб намазывай. Углядел Ванька, обедом нехитрым подле трактора закусывая, что в вывернутых плугом пластах почвы копошатся червяки. Дождевые, отборные. Шершавые и с мизинец дамский толщиной. А уж пахнут как! - остро, пряно. Сам бы так и ел. Первое дело, на леща-то.
Но шустрые, бестии.
Пошел было Ванька, подкрепившись, по вспаханному - а был он рыбак заядлый - так уж нету никого. Только норки в земле виднеются.
Покумекав, завел Ванька свой старенький “Кировец”, приспособил смолистый сосновый сук так, чтобы руль стоял прямо, поставил трактор на борозду, выставил малый газ, да и соскочил с подножки. Идет себе следом за трактором, в кастрюльку алюминиевую, из которой картоху лопал, червей из земли выхватывает. Механизатор-рационализатор, блин. Как подходит конец борозды - заскакивает в кабину, разворачивает трактор, и опять за свое. На третьем заходе, однако, не успел. Стоял, тяжело дыша и смотрел, как его трактор смял осоку и аир и вперся в самое болото. Движок не заглох - “Кировец” же! - и ворочается эта махина в мягкой жиже, широкими колесами себе яму поглубже копая. А червяки радостно расползаются из выроненной кастрюльки у Ванькиных ног.
Трактор вытащили, конечно. Но сроки были сорваны, материальному имуществу был нанесен ущерб и замять дело полностью председателю колхоза не удалось. Получил председатель по шапке. Ванька, в свою очередь, получил по шапке, выговор без занесения и другой трактор - дряхлого “Сорокана”. Т-40, то бишь. И посылать его стали на совсем уж простые работы: отвези-привези что-нибудь в прицепе, траву выкоси, поилку коровам на колхозное пастбище подвези… Ванька обижался, но терпел - сам виноват-то.
Так было и в то июньское утро. Ехал себе Ванька, на тракторе своем, тарахтел раздолбанной трансмиссией и скоблил порой придорожные кусты торчащей вбок зубастой тракторной косой. Надобно бы ей в нерабочем положении торчать строго вверх, но, как и многое в те годы, техника также пришла в упадок. Толкового спеца по гидравлике в колхозе уж пару лет, как не было, что сломается - чинили сами, как умели. Крутил Ванька беззаботно баранку, напевал под нос какую-то ерунду и не ведал, что ждет его буквально через несколько минут.
Никто из нас не знает точно, что нам уготовано. Это, в принципе, и к лучшему - живи себе правильно, как ты это понимаешь, не твори зла, да и не загадывай особо наперед. Случится то, что должно случиться. И все же есть нечто пугающее и мистическое в тех совпадениях, что порой нас настигают.
В то лето сошлись пути ванькиного трактора и пьяного Лешки в одном месте, в одно время. Решили, видно, небеса обоим испытание послать. Или не небеса, а наоборот, кто знает… Только вышло так, что шагнул Лешка из кустов на обочину, шатнуло его спьяну, да коса недочиненная голову ему и откочерыжила. Как мужики пробку с пивной бутылки сшибают о скамью. Ванька и не заметил бы ничего, только голова та перелетела через трактор, отскочила кочаном капусты от капота и плюхнулась в дорожную пыль перед тракторными фарами. Ванька машинально ударил по тормозам, еще не осознав страшной действительности. Лешкина голова, покрутившись, встала маковкой вверх, лупнула пару раз глазами, что смотрели теперь в разные строны, да и пустила струйки крови в стороны из-под обрубка шеи. Будто уродливый осьминог распростер тонкие щупальца между колеями. На ватных ногах скатился бедный Ванька из кабины, стошнил на извазюканое глиной колесо и опустился без сил тут же, в вонючую лужу. Солнышко светит, птички поют, да ветерок ласковый испарину со лба сушит… А пяти шагах голова человеческая лежит, живая еще.
Видно, в тот день кто-то изрядно потешался, сочиняя сценарий этой страшной сцены. Потому что, как еще объяснить то, что Лешиха, прибравшись и подоив корову, не выдержала и пустилась на поиски муженька. Видела же с утра, что поперся опохмелку искать, и знала, что похмеляться не умеет. Меры в себе нет. Знать, готов уже где-то, опять люди оговаривать будут.
Припомнив, что был в то время Лешка с нами, хуторскими, в контрах, решила она выйти на тракт и двинуть в поселок. У нас бы ему точно не налили, а в Рудушках друзей у Лешки было много. Встав на дорогу, она спорым шагом, что незаметно пожирает километр за километром, зашагала на север. Бабенкой она была еще справной и крепкой и минут через сорок рассчитывала взять супруга за шкирку. Но случилось по-другому, и уже через пять минут она увидала стоящий трактор и своего мужа, лежащего рядом. Она начала было привычно костерить непутевого муженька, что разлегся на дороге, подобно пьяной скотине. Но не успели прозвучать бранные слова, как до Лешихи дошла некоторая несоразмерность тела благоверного. Глаза метнулись к блестящей густой жиже, что растекалась под плечами Лешки. Над еще теплой кровью уже вилась туча комаров.
Такого воя окрестности не слыхали, верно, со времен динозавров. Кинулась Лешиха к телу мужа. Упала прямо в кровь. Руки метались, как две отдельные тварюшки, независимые друг от друга и от хозяйки. Тормошили рубаху на мужниной груди, перед тем как Лешиха припала к ней ухом в иррациональной попытке услышать родной стук, бестолково натыкались на обрубок шеи, рвали хозяйкины волосы… Лешиха сидела на коленях и выла в голос, расхристаная, лохматая, страшная. Лицо превратилось в ужасную маску - сама того не замечая, Лешиха размазала по щекам и лбу Лешкину кровь вперемешку с пылью. От того воя Ванька, и так находящийся в состоянии нокдауна, потерял сознание.
Очнулся, как сам потом рассказывал, от чувства, что на него смотрят. Повернул голову и уткнулся взглядом в глаза, зрачки которых расширились до пределов радужки. Лешиха сидела на коленях рядом с лежащим Ванькой и глядела на него. Молчала и казалось, не дышала. Посмотрев немного ниже, Ванька понял, что его буравят взглядом две пары неподвижных глаз. Лешкина голова, побитая от удара о капот трактора, пристроилась на коленях жены. Оба глаза теперь смотрели прямо и строго. Так суровый отец смотрит на нашкодившего сынишку. Образ рушил искривившийся, как в дурковатой усмешке, рот и торчащий из него черный язык. Кровь пропитала юбку, руками Лешиха обнимала голову под небритым подбородком. Ванька заорал и обмочился.
Тут Лешиха Ваньку и прокляла. Страшными, изначальными словами. Они били и секли, как плети, разили, как острые ножи-свиноколы. Казалось, само солнце прикрутило свой фитиль и листочки в испуге скукожились на рядом стоящей березке, а вдалеке, в самой лесной глухомани, кто-то издал глухой стон на грани слышимости. Прокляла Лешиха Ваньку прямо на дороге, у остывающего тела мужа, над медленно впитывающейся в пыль кровью. Самое сильное получилось проклятие, да на крови...
Не помня себя, Ванька взлетел в кабину трактора. На удивление, тот завелся с первого раза. “Сорокан” чуть не кувыркнулся колесами вверх, когда ошалевший Ванька развернулся прямо через придорожную канаву и кусты, и страшно дымя, помчался по колдобинам в поселок. В милицию. В загудевшей сосне, завязнув в мягкой древесине зубьями, торчала злополучная тракторная навесная коса.
Лешиха сидела в пыли, смотрела вслед и хохотала, ухая как филин и взвизгивая. В веселье участвовала ухмыляющаяся Лешкина голова.
Когда на место происшествия приехал милицейский бобик с унылым и опустошенным Ванькой в обезьяннике, на дороге уже никого не было. Хорошо просматривались пятна влажного песка там, где Лешиха тщательно отскоблила следы крови. Глубокомысленно осмотрев косу, торчащую в сосне и посетовав на отсутствие иных улик, милиция двинулась дальше, в Лешкин дом.
Заехав во двор, они никого не увидели. Постучав для проформы, бывалый сержант толкнул незапертую дверь, и, ударившись в сенях о неизменный ларь с мукой, прошел в горницу.
Лешка восседал во главе стола. Шею украшали широкие крестьянские стежки, сделанные суровой нитью. Между нитками проступали порченным тестом синюшные складки мертвой плоти. Лешка был переодет и причесан, голова через лоб была притянута бечевой к высокой спинке дореволюционного стула. На столе перед ним пАрила тарелка супа, в буром бульоне, мутном от дорожной пыли, плавали разварившиеся березовые листочки и сосновые хвоинки. Лешиха суетливо наливала водку в стоящий тут же граненый стопарик.
- А, Степаныч. - протянула она, искоса глянув на милиционера. - Какой кот тебя занес, али украл что, мой-то?
- Э-э… Да. То есть - нет... - только и смог выдавить из себя видавший виды сержант. Такого он не ожидал.
- Проходи, садись. Да руки вымой, сейчас супа налью. - про водку Лешиха даже не спросила, доставая второй стакан. Подразумевалось, что мужик не пить не может.
- Ты, Лешиха, это… Мужик-то твой. Ну, как это сказать… - милиционер впервые за много лет не знал, что говорить. Покраснев от натуги и признавая свою неспособность разрешить нелепость ситуации, он, сердито сопя, выбрался на улицу.
- Идите, кто. Что хочите, то и говорите. Но этот цирк, - он гневно ткнул пальцем в дверь, - прекратить мне сейчас же!
Свирепо глянув на своих двоих подчиненных, сержант полез в машину к рации, вызывать скорую.
Никто так и не вошел в дом прекращать цирк, пока нашпигованную успокоительным и снотворным Лешиху не вынесли на носилках дюжие санитары скорой. Даже их дубленые нервы сдали маленько - оба сбледнули с лица. Молодая фельдшер прописала сама себе и тут же употребила хорошую дозу валерьянки, ее потряхивало. Милиционеры неловко паковали в целлофан вилы, которые докторша им отдала, как вещдок. Лешиха для надежности насадила голову затылком на длинные зубья, да и закрепила черенок вдоль хребта мужа, протянув вощеную бечеву меж ребер благоверного. Чтоб, стало быть, осанку держал… По некоторой суетливости санитаров можно было предположить, что и у них в машине тоже имеется успокоительное. По собственному рецепту.
В скорой Лешиху определили на лежак по соседству со вторыми носилками, где покоилось, задернутое простыней, тело ее мужа. Притянули ремнями, хоть и лежала она неподвижно, уставившись стеклянными глазами в потолок. Так и укатили они вместе, как молодожены, на старенькой серой “буханке” с красной полосой по борту…
Милиционеры постояли некоторое время, глядя вслед уехавшей “скорой”, думая каждый о своем и об одном и том же одновременно. Потом сержант открыл заднюю дверцу “бобика” и, выпустив арестанта, протянул раскрытую пачку сигарет. Ванька взял и все вчетвером задымили. Долго курили, прежде чем уехать.
Лешку схоронили без жены. Лежала Лешиха в это время в психиатрии. Хоронили в закрытом гробу. Ваньку отпустили под подписку, но и так всем было ясно, что виноваты в случившемся алкоголь и трагическое стечение обстоятельств.
Лешиху выписали через месяц. Вернулась она в свой осиротевший дом. Вроде, стала жить дальше. Только стали замечать люди, что вернулась Лешиха какая-то сама не своя. С одной стороны - какой еще ей быть-то, просто так, небось, в дурдоме не держат. Но все же, все же…
Затворилась Лешиха в своем горе, замкнулась, нелюдимая стала. Появлялась пару раз в продуктовом магазине в Рудушках, где раньше работала, а потом и пропала совсем. Сердобольный Палька, сборщик молока, по своей воле и со своего кошта закидывал ей хлеба и консервов, сахару иногда. Со временем стал он единственным человеком, с которым Лешиха и виделась. А после и он перестал заезжать - молока Лешиха больше не сдавала.
Огород запустила. Неизменное картофельное поле заросло лебедой, да так, что совсем забила трава заморский овощ. На грядках с зеленью только лопухи подорожника да одуванчики и выросли. Хорошие, надо сказать, мясистые. Двор зарос травой, лишь тропинки протоптанные виднелись, к хлеву, да в лес за него. Даже по дороге к уборной колосился нетронутый бурьян.
Между тем стало у нас у всех неладно. В то лето на Янову ночь ударили заморозки аж до трех градусов. Это в конце июня-то. Потом случилась засуха до августа. Причем явления эти носили локальный характер - в округе гремели грозы и лились дожди, а у нас - тучи походят у горизонта, попугают и - ни капельки не упадет. То, что садах да в огородах не померзло в июне, успешно засохло в июле, урожай пропал.
Палька, разъезжая по округе на своей телеге с гремящими бидонами, рассказывал, что молока практически нет, собирать нечего. Молоко кисло прямо под коровами. Жара, конечно - это понятно, но никогда ранее такого не было, даже в самые жаркие года. Умели хозяйки молоко сберечь - из подойника через марлечку в молошник, сосуд такой специальный из жести, да в холодный ручей али в колодец глубокий. И все равно - кисло молочко-то…
Кроме того, жители Рудушек, Андрепны и окрестных хуторов стали жаловаться на зловоние, которое ядовитым облаком спустилось на округу. Кто-то говорил, что от суши в лесах попередохло зверье, кто-то просто крестился и ничего не говорил. Хотя, к слову - лягушки действительно пропали. Ни в озерах, ни в реках, ни в болотах не пело вечерами ни одной зеленой квакушки.
И так во всем в то лето. Рыба не ловилась, травы сохли, скотина ходила голодная. На хуторах случилось аж пять пожаров. Помидоры и огурцы почернели в теплицах и сгнили на корню. Те яблоки, что умудрились-таки созреть, были маленькими и уродливыми, висели, как кукиши на бедных листвой яблонях. При повседневных делах народ калечился и гиб. Кого-то придавило спиленным деревом, кто-то провалился в болото, один мужик умудрился насмерть пораниться косой, которую нес на плече, возвращаясь со скупого сенокоса.
Рудушский поп Миша ходил хмурый, от разговора отнекивался и все больше пропадал в маленькой церквушке, молельной по-нашему, проводя время в бдениях.
Потом потеряла совсем разумение Лешиха. Держали они с мужем корову, пяток свиней и кур, которых не считал никто. Пока лежала Лешиха в больнице, присматривали скотинку соседи - Валька, да Матрена. Было трудновато, конечно - своей, небось, на дворе хватает, но лешкина скотина была обихожена. А тут, при живой хозяйке, стала эта живность страдать. И не молчала при этом.
Скотина орала так, что слышно было в Рудушках, в четырех километрах. В вечерних сумерках эхом разносилось над холмами отчаянное мычание коровы, слышался визг свиней. Через несколько дней терпение жителей лопнуло, и к хутору Лешихи отправилась делегация мужиков, вразумить нерадивую хозяйку. Горе горем, но скотину-то мучить зачем? Пришли, постояли у жердяной ограды. Хмуро смотрели на заросший бурьяном двор, слушали отчаянный крик давно недоенной и непоенной коровы. Стараясь не смотреть друг на друга ждали, кто первый шагнет на территорию хутора, смоля одну папиросу за другой, похекивая да поплевывая. Никто не решился, и так и не смог объяснить обуявший его тогда, у темного и молчаливого деревенского дома страх, переходящий в ужас.Так и ушли ни с чем, напились в тот вечер вдрызг, даже малопьющие. Скотина скоро умолкла.
Больше никто не заходил к Лешихе. Поползли пересуды. Говорил народ - едешь мимо дома Лешкиного по вечери - окна темные, труба не куриться. Падалью да гнилью смердит. Кто посмелей, - Витька-то к примеру, Колыванов, подошел как-то, заглянул в оконце. Страх, говорит, божий. Сидит мол, Лешиха впотьмах где-то в углу, бормочет что-то, глазищи только зыркают. Почернела, стала лохматая да зубастая - зубищи за губами уже не прячутся, выпирают, как покосившийся частокол. Так глянула на Витькину физиономию в оконце, что того чуть Кондратий не обнял.
Может, врал, Витька-то… Только заикаться стал маленько взаправду.
Последней к Лешихе в дом заходила почтальонка наша, поселковая, Верочка. Долго потом бабушка ее чаем успокаивающим и каплями отпаивала, когда появилась Верочка, сама не своя, на пороге нашего хутора.
Говорит, письмо пришло, да пенсия подошла Лешихе. Делать нечего - села на велосипед да и поехала, хоть и не хотелось. Стучалась Верочка долго, никто из глубины дома не вышел. Решила зайти в сени, да оставить корреспонденцию где-нибудь на видном месте. Воров не боялась, такого, чтоб из дома что украли, и не знали в те времена, двери не запирались. Только положила бумаги на ларь, да прижала пустой крынкой, как на ее плечо опустилась сзади костистая ладонь. Верочка не слышала, чтобы кто-то подходил, и от неожиданности крикнула в голос и подпрыгнула. Когда обернулась, обдало ее волной зловония. Перед ней стояла Лешиха, но это была не та цветущая женщина среднего возраста, к которой Верочка бегала в магазин за продуктами когда-то. Кожа на лице стала желтая, какая-то пористая на вид, как молодой сыр. Брови сделались косматыми, из-под них сверкали глаза совершенно дикого вида - в одном зрачок был с булавочную головку, во втором - до краев радужки. Цвет глаз стал гнилостно-зеленым, хотя раньше щеголяла Лешиха небесно-голубыми очами.
Нос, казалось, ввалился, губы высохли и желтые зубы торчали теперь вперед, как бампер у "газона". Лешиха раскрыла рот, в котором зашевелился черный нечистый язык. Верочку чуть не вырвало от смрадного дыхания.
- Рыщешь. Все вынюхиваешь. Мужика увела, теперь и обокрасть меня решила? - каркающий, скрипучий голос был совсем не похож на тот, который привыкла слышать Верочка от Лешихи обычно.
- Фаина Яковлевна, да как вы такое себе подумать могли, - начала было оправдываться Верочка, когда высохшая ладонь впилась в плечо, как клещи.
- Только ляжки раздвинуть и мечтаешь. Коня вон, приведу сейчас, пусть вдует тебе, мож охолонешь маленько…- меж тем продолжала Лешиха. - Или вот этим тебя сейчас оприходовать?
Верочка с ужасом разглядела во второй руке Лешихи здоровенную скалку и почуствовала, как нечто сильное пытается раздвинуть ей колени. Верочка затрепыхалась пойманной птицей, но Лешиха держала крепко. Не помня себя от ужаса жахнула Верочка Лешиху в лоб тяжелой глиняной крынкой. Хватка ослабла, когда Лешиха грудой тряпья осела среди глиняных черепков, и Верочка вырвалась. Выскочив из сеней на улицу, она во все лопатки припустила к большаку, позабыв о пристроенном к стене велосипеде. Так и бежала всю дорогу до нас.
- Я ведь убила, ее, наверное. - рыдала она потом на плече у бабушки.
Дед собрался, свистнул пса и пошел к Лешкиному дому смотреть. Был мой дед мужчиной, бесстрашным до безрассудства. В войну-то вон, словило его гестапо, все пальцы на руках в суставах подробили, а не испугался, не сдал никого. Утек потом из плена и вернувшись с партизанами, раздолбал то гестапо… А сейчас старенькую двустволку, все же, прихватил. На всякий случай. Вернулся уже впотьмах. Никого не нашел в запущенном доме. Никаких следов в сенях, ни черепков, ни крови. Пригнал почтальонский велосипед, и попросил бабулю налить стопарик.
Муторно как-то на душе стало, погано, - объяснил он тогда.
Между тем пришла осень. На измученную землю полились дожди. Невзгоды, терзавшие жителей, постепенно сошли на нет, все вроде бы вернулось в свою колею. Минул сентябрь, октябрь подошел к концу. О Лешихе если и вспоминал кто, то эту тему в разговорах не поднимал. Вроде как забыли все об одинокой женщине на лесном хуторе, а она о себе и не напоминала. Хозяйство Лешкино все обходили стороной, поглядывая со стороны на темный дом, что таращился бельмами пыльных окон из глубин заросшего двора. Выходило - пропал человек, а никто и не искал. И не хотел искать, поэтому милиция бездействовала. Копилась на почте пенсия - Верочка с плачем отказывалась ехать на хутор, а другого почтальона у нас в поселке не было.
Ваньку, после произошедшего, председатель лично отправил на остаток лета от греха в другой колхоз. На усиление в период страды. И проработал там Ванька до середины октября. Вроде бы помогло - отошел Ванька душой, вернулся загорелый и спокойный. Но нет-нет да и замирал взглядом, уходил в себя. Забрать чужую жизнь - не шутка, а был Ванька добрым и честным человеком. Вбил себе в голову, что должен съездить к Лешихе и повиниться. Особой пользы от этого вряд ли бы получилось, да и рассказывали ему о странностях, происходящих с хозяйкой лешкиного хутора. Но от этого только крепла уверенность Ванькина, что обязан он поехать, поговорить, помочь с хозяйством. Никого в свои планы не посвящал, просто в один день собрался с духом, сел в трактор и поехал. Внутренне холодея, свернул Ваня на ту дорогу, где отнял он, хоть и невольно, человеческую жизнь. Ехал в мандраже. За полкилометра от лешкиного хутора остановился, съехав с большака на лесную колею.
Напала от нервов медвежья болезнь. Сделав свои дела, кинул Ванька взгляд в сторону и обомлел. Весь лес полыхал рыжьем лисичек. Местные в этом году избегали ходить сюда за грибами и расплодилось их множество. Грибы в буквальном смысле покрывали землю оранжевым ковром. Решил Ванька - полчасика потеряю, а всю зиму сушеными грибами семья лакомится станет.
Поднялся Ванька в кабину трактора, вытащил все, во что можно собирать грибы, и принялся за работу. Он набрал лисичек во все мешки, торбы и ящики, что нашлись в тракторе. Странная жадность обуяла его. Скинул ватник и, застегнувши его на все пуговицы, набил грибами. Накинув промасленную брезентуху, в которой обычно чинил трактор, он, не чувствуя холода, все собирал, собирал, собирал...
За азартом своим не углядел Ванька, что смеркаться стало. Денек короток в октябре. Оглянулся, поднял голову, - а и поди ж ты, темновато уж, в лесу-то. Решил: вот дорежу сейчас грибы на прогалине, и - все, амба. Только стал было нагибаться к очередной лисичке, - ай, шевельнулось что-то в тени под ореховым кустом. Вгляделся - не, померещилось. И только Ванька успел продумать эту успокоительную мысль, как под кустом шевельнулось снова. Теперь было явно видно, что нечто более темное, чем глубокая тень, дрожит на прелой листве.
"Ежик", - подумал Ванька
И хрен бы с ним, с ежиком, но есть у людей и обезьян, а еще у кошек сходная черта - нездоровое любопытство. Оставил Ванька в покое нетронутую лисичку и шагнул к кусту.
Тишина в лесу стояла такая, про которую говорят - мертвая. Не чирикали птицы, ветер не шумел в кронах, не звенели комары. Только было слышно шуршание сухих листьев под кустом.
До куста было шагов пять, которые Ванька прошагал, как завороженный. Шагу на втором глаза уже разглядели, что там дрожало и шуршало, но мозг пока отказывался воспринимать увиденное, потому что такого просто не могло быть. Ванька шагал и чувство нереальности происходящего охватывало его все сильней.
У корней орешника из прелого перегноя страшным цветком торчала ладонь. Человеческая. Ладно бы просто торчала - ну нашелся в лесу бесхозный покойник. Нет. До покоя тут было далеко. Ладонь тряслась, как в лихорадке, иногда так быстро, что очертания пальцев смазывались от скорости. Почерневшие пальцы судорожно сжимались, забирая в горсть ореховые листья и сучки. Рука шарила по земле, будто силясь найти что-то оброненное. Словно почуяв Ванькино приближение, рука развернулась пальцами к нему и замерла. В ноздри шибанула вонь разложения.
Ванька не заорал. Просто похолодело все внутри, голова сделалась пустой и гулкой. Тут-то Ванька и понял, что слова "сердце ушло в пятки" - не пустая идиома. Он прямо почувствовал, как оно ухнуло вниз и пульсировало где-то внизу живота, вызывая естественные позывы.
Рука тем временем, перебирая гнилыми пальцами, как заправский паук, поползла к Ваньке. Покрытое трупными пятнами запястье все тянулось и не кончалось, и казалось гибким, как змея.
Тут надобно признать, что Ванька-таки обмочился. Хотя, думаю, мало кто на его месте остался бы хладнокровен. Мы, теперешние, насмотревшиеся и не таких мерзостей в фильмах ужасов, отнеслись бы к такому явлению поспокойнее. Может быть. По крайней мере, для нас такое зрелище было бы попривычнее.
Но Ванька был продуктом советского воспитания, и поэтому его мозг просто отрицал увиденное. Отметал, как невозможное. Поэтому стоял Ванька, и как бы со стороны смотрел, как приближается к нему страшный подземный гость.
И только когда обломанные желтые ногти коснулись носка его резинового сапога, обрел Ванька утерянную было способность к действиям. Он скакнул, как кенгуру, отпрыгнув метра на три. И это - с места. Задом наперед.
Сломя голову, бросился Ванька бежать, круша кусты, как лось. Летел Ванька через темнеющий лес, не выбирая дороги, лишь бы подальше от Этого. Бежал долго, спотыкался, падал, рискуя лишиться глаз из-за сучков и веток, или сломать ногу. Когда, наконец, исцарапанный и грязный, остановился Ваня отдышаться, прислонясь к стволу осины, под ногой что-то зашуршало. Опустив глаза, в совсем уж загустевших потемках, он с ужасом и отчаянием увидел целлофановый пакет с надписью "Мальборо". Его пакет. С лисичками.
Поднял Ванька взгляд от земли, а и вот он - куст памятный. Рука из-под которого ползла. Тишина в лесу, повторюсь, мертвая. А вроде как мухи мясные жужжат. И белесое пятно за кустом виднеется, аккурат на высоте ванькиных глаз. Повисело-повисело, пятно это, да и двигаться стало. К Ваньке, конечно, а к кому-ж еще? И движется диковинно так - скачками как бы. Ванька стоит - ни жив, ни мертв, ногой-рукой шевельнуть не может, а оно к нему скачет. Как чуть ближе стало, увидал Ванька, что это за пятно. Знакомец его давнишний, Лешка. Собственной персоной. Не всей персоной в целости - голова только. На вилы насажена - чтоб, значит, конверсацию вести согласно куртуазности, на черенке по палой листве скачет. Головенка-то подгнившая, червем порченная, а улыбается лихо так, по-гусарски. Воня-я-ет…
- Ну привет, крестничек. - голос был вроде и Лешкин, каким его Ванька помнил, но и не таким совсем. Как отрыжка сипящая. - Как тебе тута, ниче живется?
Ванька, невзирая на нелепость вопроса и ситуации в целом кивнул болванчиком.
- И мне ниче тама. - продолжила лешкина голова сипеть. - Только сыро. И тесно. И червяки ужо больно одолели. Попробуешь, мож?
Вилы скакнули еще раз и теперь мутные бельма смотрели прямо в ошалевшие ванькины глаза. В уголке правого проворно извивался тоненький червячок.
- Айда со мной. Ты ж меня туда спровадил, вот сам и попробуешь, каково это.
Несмотря на паралич, Ванька неистово затряс головой. Страшный смысл слов, вылетевших из гнилого рта вполне до него дошел. Составить компанию Лешке Ваня не хотел. Совсем нет.
- Да ладно тебе, не тушуйся. Не страшно совсем. Затемнело, сверкнуло - и все. Давай, пошли. Давай-давай.
Ванка почуял, как что-то ухватило его за лодыжки. Корни. Белесые корни, скользкие, сочащиеся то ли соком, то ли гноем, выпростались из-под прелой листвы и обвили ванькины сапоги. Ванька судорожно, со всхлипом дернул одной ногой, другой - без толку. Корни держали намертво. Парень забился, как птица в силках, не устоял и плашмя рухнул рядом с цветастым пакетом, полным лисичек.
Упал на что-то неожиданно мягкое. Вроде только что стоял на палой листве орешника, под которым был крепкий, надежный суглинок. Ан нет - лежал теперь Ванька на чем-то, напоминающем влажный мох. Инстинктивно выставленные в падении вперед руки по плечи погрузились во влажную гниль. В запястья вцепились когтистые пальцы и потянули вниз. Ванька завопил так, что сорвал голос. Крик перешел в писк, который захлебнулся, когда Ваньку с головой затянуло в мох. Он чувствовал, как мох наползает ему на плечи, на затылок, заталкивая глубже. Не было чем дышать и все очень походило на то, что пришел конец. Тут на Ваньку снизошло некоторое спокойствие - видимо, наступил шок, сознание не справилось с осмыслением происходящего и впало в ступор. Ванька вроде все понимал, но никакого эмоционального отклика уже не было. Он наблюдал как бы со стороны, как молодого парня затягивает в мох, а в перспективе, если верить страшному знакомцу - на тот свет, и понимал, что такого быть не может. Все это не стыкуется с советской действительностью. Никак. Но, тем не менее, это происходит. Ванька чувствовал, как тонкие, жесткие, как толстая леса, корешки проникают под рубаху, прокалывают кожу и прорастают прямо в тело. Горько подумалось, что это - все, и его больше не будет… Остануться Ленка и Шурка полными сиротами, пойдут по детским домам. Все из-за него. Не уберег, не оборонил от жестокого мира, как должен был. Встали перед ним образы - серьезная отличница Лена, серые мамкины глаза прячутся за оправой очков и шаловливая непоседа Шурочка с вечно исцарапанными коленками и извазюканной конопатой мордашкой. Горячие слезы кипятком прошли по слезным каналам, как вода по иссохшему руслу. Ванька не плакал лет с трех и теперь не только глаза - все лицо жгло так, что казалось он может подсушить мох, в который была погружена ванькина физиономия. Он взмолился безмолвно, и не была эта молитва направлена ни к кому лично и в то же время ко всем сразу. Все слилось в ней: и чувство вины и просьба о прощении, и самое главное - горячая любовь к двум девочкам, вся жизнь которых без него будет сломана…
Его услышали. Стало тепло и легко. Когтистые лапы разжались и выпустили руки. Прозвучал утробный стон, полный досады и перестало его тянуть вниз. И было это последнее, что он услышал - милосердное беспамятство смыло все черной волной.
Очнулся Ванька от того, что задыхаться стал. С превеликим трудом, криками и слезами сумел выбраться из-под полуметрового слоя сырого мха. Грибным ножиком резал корешки, что опутали все тело, с воплями выдирая их из-под кожи, где уже успели прорасти. Пополз туда, где, как ему казалось, оставил он трактор. Полз, пока были силы, потом потерял сознание опять.
Нашли его, облепленного мхом и опутанного кореньями, утром на обочине дороги. Свезли в больничку врайцентр. Как только чуть очухался, приезжала к нему милиция. Трактор-то пропал. Ванька, понимая, что в то, что случилось, никто никогда не поверит, твердил, что поехал за грибами и заплутал. Где трактор - не знает. Как выбрался - не помнит… Приезжал на разговор председатель колхоза. Выслушав ту же историю, неопределенно хмыкнул и пожелав выздоровления, убыл восвояси.
Председатель очень хорошо относился к Ваньке. Знал, как тот в одиночку вырастил двух сестер. Осиротели они рано. Ваньке было четырнадцать, сестренкам - четыре и шесть. Ванькина сердобольная учительница русского языка формально стала опекуном, чтобы не раскидали детей по детским домам, но помочь более ничем не могла - у самой семеро по лавкам. Так и стали жить дальше втроем в опустевшем родительском доме. Жили не не хуторе, а в райцентре, на людях. Но никто не сообщил властям, что опекунство-то формальное и живут дети сами по себе. Понимали все, люди-то…
С другой стороны, назвать Ваньку ребенком никому и в голову не приходило. Мыслил и действовал он сурово, по-мужски. Всеми правдами и неправдами искал работу. Любую. Не гнушался ничем, никакой самый грязный или тяжелый труд его не смущал. Сам тощий, глазища в пол-лица, и непонятно совсем, в чем душа-то держится, он каждую копейку нес в дом. Сестер надо кормить и одевать. Лечить. Сидеть ночами, когда болеют. Сидеть, считая минуты, в которые можно ненадолго прикорнуть - утром-то на работу. И успевать в школу к тому же - девять классов надо заканчивать, как ни крути.
Председатель колхоза заприметил паренька, что крутился то у автобазы, то у складов. Хотел было шугануть по-первости, сообщить, куда следует. Но, разобравшись в ситуации, передумал. Зауважал председатель Ваньку. За характер и за то, что делал Ванька все правильно, по-мужски. Стал помогать, чем мог.
Но сейчас помочь не смог. Второй трактор за полгода - это перебор. Причем если первый просто попортил, то второго и вовсе след простыл. Может, толкнул его Ванька налево. Государственное имущество-то. За такое тогда спрашивали строго, вот и забрали Ваньку из больнички прямиком в районное СИЗО.
Минул еще месяц. Сестры ванькины жили пока у учительницы. На лешкин хутор отправили наконец наряд. Никого не нашли, только останки скота в хлеву. Туши были полусгнившие, но тем не менее, явно просматривалось то, что их кто-то терзал и грыз. Списали на волков. Хозяйку объявили во всесоюзный розыск.
А Ваньку отпустили тогда. Трактор-то нашелся. Коилометрах в пятидесяти от того места, где обнаружили бесчувстенного Ванку. Как такое могло быть, никто объяснить не смог. Никаких грибов в нем не было. И Лешиха нашлась. Прислала письмо откуда-то из-за Урала, что живет у сестры, поехала, как из психушки выписалась. Справлялась о здоровье местных, писала, что останется здесь. Не вернется, мол, тяжело ей очень видеть все, что о Лешке напоминает. Наказывала, чтоб с хатой делали, что хотите, наследников на хозяйство нет, а Ваньку она прощает. Как ни странно, но в деревне, где если только кто чихнет, то весть разлетается по округе, все эти странности не обсуждали. Слишком серьезная тема получалась, а сельчане к этому чуткие.
Случилось все это лет как будто пять мне было. На Лешкино мы хаживали частенько - с отцом, с дедом, с дядькой, один ходил, как подрос. Лисичек волокли, бывало, полные корзины, да и рубахи впридачу, завязанные узлом и набитые рыжей добычей. Урожаи грибов были сногсшибательные. Так и росли мясистые петухи дорожками да кольцами, режешь один - два замечаешь, и не оторваться же! Режешь и режешь, и жадность какая-то донимает… Прямо страсть. Умом понимаешь, что набранного уже девать будет некуда, и чердак весь в нитках грибов - сушаться, и знакомые уже отнекиваются от дармовых подношений, а остановиться не можешь.
На Лешкино не рекомендовали ходить приезжим - никогда не направляли, если спросят и отговаривали, если уже собрались. Даже мы, местные, знающие местность насквозь, случалось пребывали в смущении. Пойдешь, вроде места знакомые, так закрутит, запутает, глядь - а уже и не понимаешь, где ты. Лично со мной, человеком сильно к лесу привычным, не раз такое бывало. Идешь, грибной урожай снимаешь, по сторонам поглядываешь. И в один момент, вскинув голову, не узнаешь место, куда шел. Тогда остановишся, успокоишься. Главное - не паниковать. Спокойненько идешь по солнцу. Идешь, идешь… и выходишь из леса почти затемно, ги с совсем другого краю, километров за пять от того места, где планировал выйти. И вроде зашел с утра и ходил от силы часа три - а глянь-ка, солнышко уж садится.
Всякое в лесу бывает, да не обо всем рассказываешь. Прослывешь лгуном или еще хуже - заполошным, в деревне это серьезно. Ну не могу я с уверенностью сказать, что виденный пару раз силуэт в сумеречном лесу, похожий на сгорбленную старуху, был именно Лешихой. Но черные глазища, зыркнувшие их сгущающейся темноты я помню до сих пор. И не только я, думается, не зря лес этот стал народ как-то незаметно, исподволь называть Лешкиным лесом, или просто Лешкино.
Но скорее всего никто, кроме меня не видел пакет, выцветший, но с еще читаемой надписью "Мальборо", который я нашел в своих блужданиях. Лежал под палыми листьями, неподалеку от здоровенного орехового куста. Только я дотронулся до него, как рассыпался он белыми хлопьями старого пластика. Зашумели листья орешника, хоть стоял полный штиль, и потянуло падалью. Несмотря на солнечный день пахнуло холодом, и я ретировался со всей возможной скоростью, боясь оглянуться, чтобы не увидеть что-то, на что живому человеку не стоит смотреть. Зато я знаю точно, что не врал Ваня, когда рассказывал эту историю.
Рассказывал мне, семилетке, и свет от керосинки играл на его абсолютно белых волосах.
#11402 в Проза
#4687 в Современная проза
#1807 в Мистика/Ужасы
#770 в Паранормальное
Отредактировано: 15.08.2019