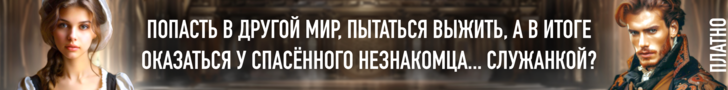Мимолётность
Глава 12.
Он превращает бурю в тишину.
Пс. 106:29
Что есть время? Бесконечно протяжённая в мировом просторе линия, на которую, словно бусины, нанизаны былые дни и годы с их неизбежными воспоминаниями, бессмысленными трагедиями и горьким фарсом? Или же хаотичное нагромождение образов и понятий в душе отдельно взятого человека, который, будто жонглёр, играючи и ловко распоряжается ими по своему усмотрению, презрев их неукоснительно строгий временной порядок? А в таком случае есть ли оно вообще? Существует ли оно в природе? И доступно ли для постижения земному и преходящему человеку?
Какими бы ни были ответы на эти, несомненно, важные вопросы, Альберт чувствовал себя совершенно обессиленным и находящимся вне какого-либо времени. Тысячи образов и воспоминаний заново рождались пред его застывшим взором, непрестанно накидывались на него, будто голодные дикие псы, и он уже не мог понять: истинна ли сидящая пред ним женщина или же это всего лишь очередная игра его воспалённой фантазии, усталого разума и измождённых чувств.
Неизвестно, сколько длилось это молчаливое мгновение между растерянным аббатом и удивлённо-сдержанной герцогиней, но им казалось, что вокруг нет ни роскошного замка, ни колыхающего леса, ни сводов над их чуть склонёнными друг к другу головами, и только безмятежно синее небо освещает их лица да журчащая неподалёку сребристая река услаждает их слух. Им казалось, что вокруг них уносятся вдаль просторные зеленеющие поля, а прохладный ветер веет с южных морей, принося с собой сладостный запах неги и покоя. Альберт воочию видел за спиной женщины небольшой уютный дом, из которого вот-вот должен выбежать маленький мальчик, их чудесный сын. Мужчина сделал несколько неверных шагов навстречу своей кружевнице, но застыл в одном шаге от неё, не смея преодолеть этот последний разрушающий его прежнюю жизнь шаг. Вдруг где-то вдалеке раздался высокий пронзительный смех, звонкий, весёлый и совершенно невесомый, будто многократно усиленное и повторённое эхо. Женщина заметно вздрогнула и нервным движением боязливо прижала к себе лютню. Мгновение прошло, и возникшая иллюзия незаметно растворилась, точно дым, рассеянный прохладным веянием ветерка. Их снова окружали тёмные стены, каменные и холодные, словно стены гробницы или тюрьмы. В ушах мужчины, не прекращаясь, звучал тонкий и искристый смех, немного девичий, но отчасти поистине дьявольский. Повинуясь многолетней приобретённой в аббатстве привычке, мужчина поднял руку, чтобы осенить себя крестным знамением, но что-то остановило его, и он медленно опустил ставшую внезапно невероятно тяжёлой кисть.
Было ли это предзнаменованием свыше, игрой воображения, или этот смех был на самом деле, Альберт не смог бы ответить, но очевидно именно последнее, так как в следующий момент дверь за спиной чем-то испуганной Аталии вдруг резко распахнулась. Женщина порывисто вскочила, но не бросилась к мужу, а осталась стоять на месте, в безмолвной просьбе глядя на хозяина замка.
Весьма мощная фигура, внезапно появившаяся в дверях, казалась огромной тенью, поглощавшей собой весь свет и радость, которые наполняли замок. И тень грозно промолвила устами герцога:
— Я же просил не шуметь в этот час, невоспитанная девчонка!
Хмурое недовольство, написанное на лице мужчины, сменилось недоумением при виде стоявшего так близко к Аталии аббата, но и оно тотчас же исчезло, уступив место ярости и гневу. Черты лица герцога отличались невероятной правильностью и изысканностью линий, однако теперь это едва ли можно было усмотреть в искажённой злобой гримасе. Кровь прилила к его щекам, окрасив их в матово-алый цвет, на висках заметно пульсировала голубая жилка, а рот презрительно и горько искривился. Поначалу он молчал, беззвучно хватая губами воздух, но через некоторое мгновение, будто очнувшись от страшного цепенящего сна, надрывный крик наконец вырвался из его груди. Герцог запустил широкую ладонь в свои густые льняные волосы и крепко сжал их в кулаке. Другой рукой он с силой потёр красное лицо, оставляя на нём длинные белые полосы. Мало что человеческого было в этом отчаявшемся мужчине, словно дикий зверь занял сущность герцога, оставив лишь его преходящий и такой изменчивый облик да яркие, богато украшенные фестонами одежды. Но разве можно принимать за человека существо, облачённое в человеческую кожу и одежду и чрезвычайно искусно притворяющееся им? Вздрогнув от этого звериного рыка, вырвавшегося из груди человека, в мире называющегося герцогом, Альберт со смесью любопытства и отвращения смотрел на задыхающегося от ярости мужчину.
После продолжительной паузы герцог, наконец, разразился гневными словами, которые прерывисто и смятенно вырывались из его судорожно подрагивающих уст:
— О, проклятье! Да кто вы такой и что делаете в моём замке?! Пойди прочь от моей супруги! Ах, вижу, вижу по твоему одеянию, к какой породе ты принадлежишь. Неужели ты действительно думаешь, что принадлежность к якобы святому месту и не менее святой общине делает тебя неуязвимым и неприкасаемым? Что же за самомнение у нынешних святош! Думают, что раз на них ряса, то им всё дозволено, всё так легко сходит с рук?! Вот оно — коварство, прикрытое благопристойным одеянием! Ха-ха! До этого момента я наивно полагал, что эти слова относятся исключительно к женщинам. Что же, я готов признать свою ошибку. Отвечай, какой чёрт тебя надоумил вломиться в мою крепость и так бесстыдно и нагло увиваться за моей законной женой? Хорош аббат! Как гадко и грубо, вероломно и хитро! И кто вообще впустил тебя? Я же посылал в аббатство письмо с уведомлением о смерти моего капеллана и с просьбой ни в коем случае не отправлять ко мне одного из ваших святых отцов, пока вокруг царит такая отвратительная зараза! Ну просто самая настоящая вакханалия смерти! Так зачем ты пришёл? Впрочем, не так уж и сложно догадаться. Не ты первый, не ты последний. Конечно, ты скоро узнаешь, как я обхожусь с такими вот гостями, как ты. Стража! Стража! Узнаешь, чем потчую, чем угощаю я таких дорогих и долгожданных гостей! Что это с твоим лицом? Никак испугался? Ха-ха, поздно одумался, дружок! Стража, сюда, стража! Да где же они все бродят, несчастные?
Нервно размахивая руками, мужчина задел стоящую на столе вазу, и она с треском упала на холодный камень, разбившись на мелкие фарфоровые осколки. Аталия с сожалением посмотрела на беспорядочный цветной узор черепков, поскольку очень любила эту простую, но такую искусную вещь. Краткий испуг, отразившийся поначалу в её небесных глазах, несколько угас, и неизбывная печаль уставшей от жизни и её страстей женщины озарила её бледное лицо. Спокойно, даже скучающе, она слушала эту гневную отповедь, направленную, однако, совсем не на неё, и каждое резко сказанное слово заранее всплывало в её голове, так как всё это она слышала уже не раз, и ей попросту надоела эта пустая и бессмысленная болтовня. Но она также знала, что никакие мольбы и просьбы не способны успокоить и охладить ярость обезумевшего супруга. Оставалось только терпеливо ждать. Что может быть утомительней этого?
Наконец, издалека послышался стук приближающихся шагов: дребезжащий и оглушительный топот в зачарованной тиши замка. Но перед самыми дверями, молчаливо сомкнутыми за спиной Альберта, движение внезапно прекратилось. Послышались недовольные и что-то громко обсуждавшие голоса, разгорелся чей-то спор, в котором отчётливо звенели тонкие нотки робкого мальчишеского голоса и пылкого юношеского. Сердце мужчины отчаянно забилось, и ему мучительно захотелось выбежать из этого проклятого замка, захватив с собой двух излишне любопытных и нерадивых учеников, и никогда не вспоминать об этом чудном видении давно угасшего чувства. Или ещё лучше: вернуть прошедшее утро и остановить мальчиков на полпути, чтобы ни они, ни тем более он никогда не посетили герцогского замка, не вкусили этого сладкого ядовитого обмана его царственных обитателей.
Двери резко распахнулись, и перед появившейся стражей герцог, Аталия и Альберт увидели двух приятелей: светловолосого юношу, похожего на юного и вечно прекрасного Ганимеда, который без страха и смущения рассматривал убранство покоев и с любопытством поглядывал на стоящих пред ним людей, и небольшого роста, бледного, с тонким заострённым лицом, темноволосого мальчика, в водянистых глазах которого, казалось, плескалась вся печаль и мудрость мира. Он исподлобья смотрел на собравшихся, и глубокая складка пролегла меж его чёрных бровей.
Зачастую Ганс воспринимал жизнь как некое театральное представление, разыгрываемое ежечасно перед его чутким взором, представление, в котором каждый человек играл свою особую роль, вооружившись маской, подходящим костюмом и вдохновенным лицемерием. Вот и сейчас, по воле случая оказавшись во внутренних покоях хозяев, он ясно увидел поставленную чрезвычайно грубо и нелепо трагикомедию: высокородный сеньор мастерски изображал каменную химеру или горгулью, женщина застыла в молитвенной позе ангела с благолепно сложенными воедино руками, а аббат выглядел сущим евангелистом с суровым непроницаемым лицом и устремлёнными вдаль глазами. Вся разверзшаяся пред мальчиком картина чудесно сочеталась с ансамблем резных фигур на фасадах готических соборов, которые так любил рассматривать Ганс. И герцог, и аббат так нарочито цеплялись за свои маски, что перед искушённым и знающим взглядом выглядели поистине смешно и совершенно непритязательно. Но женщина, застывшая в молитвенной позе, точно небесный ангел, была безоружна и чиста в своих чувствах и помыслах, чем неизбежно и вызвала пристальный интерес мальчика.
Пока аббат судорожно размышлял о спасении ребят, а хозяин замка громогласно возвещал об очередных проклятиях на головы невесть откуда взявшихся и вовсе не желанных им гостей, женщина, отложив лютню в сторону и обхватив себя округлыми полными руками, с возрастающим удивлением всматривалась в лица мальчиков, выказав, впрочем, гораздо более пристальное внимание именно Гансу. Удивление, испуг, неверие, надежда и робкая просьба поочерёдно возникли на её лице, в конце концов сменившись мучительным раскаянием, мерцавшим в её широко открытых лазурных глазах. Ганс, точно губка, впитывал в себя все эмоции, мелькавшие в прекрасном лике женщины, и понимание стало зарождаться в его потерянном сердце. Он вдруг вспомнил недавно скоропостижно умершую мать, давшую ему беззаботную и благоустроенную жизнь, любящую семью и кров над головой. Ослепительной вспышкой в его сознании пронёсся облик исполненной чувственной неги Мари, волей природы предназначенной для жертвенного материнства, ещё не осознающей этого, но уже постигающей это всей своей душой. Ганс воскресил из глубин своей памяти воспоминание о внезапно осознанном им различии, надломе меж образами собственной матери и нежной девушки, и вдруг всё, абсолютно всё, стало понятно ему. Всё внезапно осветилось ярким светом, беспощадным и правдивым. Будто он раскрыл перед собой книгу, аккуратно написанную на чистейшем французском языке простыми незатейливыми буквами, книгу о самом себе, о своей жизни и своей судьбе.
Конечно! Всё оказалось таким простым, что Гансу захотелось расхохотаться от собственной недогадливости. Вопреки этому желанию мальчик почувствовал тяжёлый камень, осевший в его груди, его горло судорожно сжалось, а глаза застлали слёзы.
— Иоанн, — тихо промолвила женщина, и её лёгкий шёпот окончательно подтвердил его предположения.
Тёплое чувство, совсем недавно охватывающее мальчика, постепенно истончилось и незаметно угасло, уступив место холодным размышлениям, свободно реющим в его ясной и необычайно собранной голове. “Вот значит как. Интересно. Просто удивительно! То, что я так долго искал, чего так страстно желал, оказалось совсем рядом, — отстранённо думал Ганс. — Всё оказалось так близко, что стоит только протянуть руку, и ты можешь прикоснуться к своей мечте. Но, может быть, было бы лучше, если бы мечта так и осталось недосягаемой и прекрасной мечтой? Разве теперь я счастлив? Если подумать, то как же всё гнусно выходит! Но я не хочу думать, не могу, не смею. Разве не большее уважение, не большую любовь заслуживает женщина, вырастившая меня, нежно заботившаяся обо мне долгие годы, наконец, верная мне всем своим открытым любящим сердцем, нарекающая меня своим родным сыном, хотя это и не так? Какой же обман! Какой восхитительный и ужасный обман!” Мысли кружились в голове Ганса, перескакивая с одной мысли на другую, и над ними, словно взошедшее из тьмы солнце, парили глаза Аталии, пристально и недвижно направленные прямо на него.
На кратко обронённое слово женщины обратил внимание ещё один человек: услышав имя, аббат тотчас же вышел из своего оцепенения и в ужасе взглянул на Ганса. Он недоумённо покачал головой, но чем больше он всматривался в лицо мальчика, тем большее видел сходство, тем сильнее уверялся в своей, как ему казалось, безумной мысли. Да, это всё объясняло: и его постоянную злость на мальчика, и требовательность, и неосознанное интуитивное желание участия в его судьбе, — ведь он так был похож на него самого в далёкие годы юности, прошедшей под светом учёности и познания, которых впоследствии он так стыдился, что и вовсе позабыл о тех годах, стерев их из памяти. Но не до конца, как выяснилось только теперь. И как он мог позабыть самые важные годы его жизни, годы духовного становления и душевного совершенствования? За какими бесполезными, бесплодными и нелепыми иллюзиями он так долго гонялся! Альберт чувствовал в своём сердце невероятную подавленность.
Исподлобья глядя вперёд, Ганс видел, как на импровизированной сцене пред ним разворачивается очередная плохо поставленная драма, и чувство томительной пустоты стало одолевать его. Ему было противно видеть растерянное лицо мужчины, не видевшего дальше собственного носа все эти долгие годы, ему было невыносимо чувствовать на себе умоляющий взгляд прекрасной и величественной женщины, что была похожа на изменчивую спартанскую царицу* и такую же непреодолимо чужую. Он крепко сжал руку Луи, всем сердцем желая покинуть роскошные покои замка и более не видеть полуразмытые временем и вспыхнувшими чувствами маски угнетающе плохих актёров. Чьи роли они играли с таким непередаваемым апломбом и вычурностью? Ганса это более не волновало. Только бы выбраться отсюда поскорее! Луи чуть слышно вздохнул, и этот тихий и родной звук ободрил мальчика и привнёс в его измотанную душу веяние уверенности и спокойствия. “Подожди, — словно говорил он. — И это скоро пройдёт”.
С холодным любопытством и сдержанной отрешённостью Ганс слушал, как аббат в ответ на обвинения герцога начал с убеждённостью защищать его и Луи:
— Повинуясь единственно моему желанию, эти двое учеников проникли в ваш замок, милостивый сеньор. Только я один виновен в случившемся и готов понести заслуженное наказание.
Так говорил мужчина, и глаза герцога всё более наливались злобным удовлетворением и предвкушением чего-то ожидаемого и сладостного, чего-то поистине страшного для Альберта. Разгорячаясь, аббат придумывал новые и новые обвинения против себя, признавался даже в том, чего и в здравом уме не сделал бы никогда. Его речь казалась правдивой, а отчаянно решительный вид только подтверждал сказанные слова. Только об одном молил мужчина: отпустить с миром двух напуганных и совершенно невинных детей. Ведь именно он, он один, привёл их сюда, словно загнал беззащитных животных в хитроумную и жестокую ловушку.
Выслушав сбивчивую, но логично выверенную, а потому довольно убедительную речь аббата, герцог снисходительно махнул рукой и нехотя обронил приказ недвижно стоящей страже:
— Сопроводите кто-нибудь этих двух беспризорников за пределы моего замка. Пусть идут на все четыре стороны, куда им заблагорассудится. Надеюсь, они поняли, что при нашей повторной встрече их будет ждать та же участь, что и их глупого наставника. А теперь прочь с моих глаз!
Неизвестно, нашли ли какой-либо отклик слова аббата в душе герцога, способствовавший проявленному милосердию, или же он, желая ускорить расправу над неожиданным соперником, которого интуитивно чувствовал в Альберте, избавился от препятствовавших выполнению его замысла элементов. Какими бы чувствами ни руководствовался мужчина, ребята были спасены. Один стражник взял инициативу на себя, перехватил Ганса и Луи за локти с двух сторон и повёл их сквозь анфиладу высоких и искусно вырезанных дверей к выходу. Угрюмый воитель грозно молчал, но чем дальше они удалялись от покоев хозяина замка, тем более оттаивало замершее ледяной вышколенной маской грубое лицо охранника. К тому моменту, как приятели вышли на большую лесную дорогу, ведущую в город, и стражник, и подошедший привратник походили скорее на добродушных дедушек, мягко пожуривших двух мальчиков и пожелавших им доброго пути с надеждой, что новое приключение более не приведёт их в герцогский замок, радушный хозяин которого так ласково привечает заблудших гостей. Посмеиваясь в густые усы, стражник отечески потрепал Луи и Ганса по вихрастым макушкам и уже собирался прикрыть за ними ворота, как вдруг со стороны замка послышался звонкий окрик. С резвой стремительностью, свойственной свежей юности, к воротам подбежала запыхавшаяся девочка, тихо шурша детскими ботиночками по гравию дорожки. Её миловидное лицо раскраснелось от быстрого бега. А может, тому виной был гнев, плескавшийся в глубине её светлых глаз.
— Вы оба совершенно не умеете играть! — с досадой заявила Ева и сердито потрясла запутавшимися белокурыми кудряшками. — Кто же вас учил, позвольте спросить?
— Никто, Ева, — загадочно улыбаясь, ответил Ганс и тихим доверительным шёпотом добавил, — нам только предстоит всему научиться. И путь этот будет долог и тяжёл. Но я вернусь, слышишь? Я обязательно вернусь, когда хорошенько усвою все правила этой безумной игры.
Девочка окинула Ганса снисходительным взглядом полным превосходства, будто оценивая его возможности и скрытые способности, и, сделав свои собственные выводы, уверенно произнесла:
— Это совсем не сложно, и рано или поздно ты это поймёшь. Ведь это всего лишь игра.
Бросив лукавый взгляд на мальчика, Ева спешно убежала обратно в замок. И Ганс снова долго и неотрывно смотрел, как, игриво танцуя, развеваются на ветру длинные шёлковые ленты, искусно заплетённые в кудри её льняных волос.
День клонился к вечеру, и друзья поспешили вернуться обратно в аббатство до того часа, когда алая мгла сумрачно окрашивает усталую землю, а в душном воздухе воцаряется безбрежный покой. Мысли об оставшемся в замке мужчине преследовали их всю дорогу, но ни Ганс, ни Луи не произнесли о нём ни единого слова, словно боясь озвучить нависший над аббатом смертельный приговор. И если юношу одолевало сожаление о попавшем из-за них в страшную беду наставнике, то в душе Ганса гулко звенела пустота, а сердце было глухо и подавлено. Его ежесекундно мучала мысль о коварном обмане, тяжесть которого была невыносима его хрупким плечам. Он всем сердцем желал позабыть всех встреченных им сегодня людей, разве что за исключением Евы, но это был слишком лёгкий путь, недостойный для любого мыслящего и вдумчивого человека. Как он мог позволить себе мечтать о благословенном забвении, когда сама мысль об этом казалась ему позорной? А потому он со скорбным удовлетворением снова и снова воскрешал в памяти то лицо женщины, жалобно и неверующе шепчущей его имя, то удивлённо-понимающее выражение глаз аббата. Потом он вспомнил недавно погибших от мора отца и мать, их ласковую ежедневную заботу и беспокойство, их умиротворённые и уветливые лица, и сомнений больше не осталось в душе мальчика. Предательство и обман не могут рождать семью. С этими мыслями Ганс вошёл в город и, расставшись с другом, направился к кладбищу, дабы навестить могилы своих истинных родителей и воздать им ту благодарность, осознание которой только сейчас, точно вспышкой молнии, осветило его разум.
Как только из замка вывели двух приятелей, герцог удовлетворённо потёр руки и незамедлительно распорядился, чтобы мнимого аббата, будто преступника или злодея, тотчас же доставили в темницу, расположенную на вершине одной из высоких башен. Погружённый в свои невесёлые размышления, Альберт покорно позволил связать кисти своих рук и увести себя прочь от тревожно глядящей ему вослед Аталии. Бросив на неё краткий, исполненный непереносимой душевной муки, взгляд, он успел заметить бесконечную вину, написанную на её непреходяще прекрасном лице. Но нет, на нём не горело раскаяние, не разливалась горечь, не мерцало сожаление: только виднелась умудрённая прожитыми годами, неизбывная женская печаль. Находясь в крайнем замешательстве, чувствуя себя безвозвратно потерянным, Альберт слепо и безвольно повиновался страже, уводившей его навстречу скорой будущей погибели.
Темница, в которой некоторое время спустя оказался мужчина, представляла собой округлую маленькую комнатку, скользкий каменный пол которой был устлан полупрогнившей от сырости соломой. Неясный вечерний свет скользил косыми лучами по убогому пристанищу аббата сквозь узкую бойницу, закрытую толстой решёткой. Проводив пленника, стража молча удалилась, с резким стуком закрыв за собой массивную железную дверь и оставив мужчину наедине с его ожившими страхами в промозглом затхлом полумраке. Прежде нещадно горящее солнце, казалось, холодело и всё ниже накренялось к границе темнеющего горизонта, отчего сумрак нового жилища аббата начал постепенно сгущаться, а каменные стены отдавать ещё большей сыростью. Временами по углам раздавались лёгкие шорохи, скрежет и слышался тонкий писк, однако присутствие мерзких сожителей не пугало мужчину, а наоборот причудливым образом гармонировало с его внутренним мироощущением. По его скромным представлениям, именно в такой темнице некогда закончил свою жизнь граф Уголино, заточённый в Голодную башню вместе со своим многострадальным семейством*. Ощущение поддержки родного существа, вероятно, сглаживало муки последних предсмертных часов, однако Альберт, сравнивая себя и давнего опального пизанского правителя, с радостью принимал вынужденное одиночество, не имеющее возможности облегчить тяжёлую ношу на груди друга, брата или возлюбленной.
С приближением полуночи писк усилился и раздавался уже совсем рядом с сидящим на соломе аббатом. Вскоре он не выдержал и стал мерить беспокойными шагами длину удручающе маленькой камеры. Душевное волнение сообщало дрожь и нетерпение всему метущемуся по темнице телу, а потому мужчина непрестанно находился в движении, припадая то к железной двери, то к решётке узкой бойницы, то без сил падая на холодный скользкий пол. Тем не менее, он с мрачным удовлетворением и восторгом разглядывал кровоточащие влагой стены, вдыхал витающий в воздухе смрад и благодарил Бога за то, что ему представилась великолепная возможность сполна искупить свою невыносимую вину, гложущую его, словно стая диких голодных зверей. Если бы его спросили, в чём именно состоит его вина, он бы не смог подобрать точных и правильных слов, объясняющих его добровольное самоистязание, ибо он чувствовал, что вина его выражалась не в поступках, а в их отсутствии. Вина незримо проходила сквозь его мысли, суждения и речи. Он с горячностью порицал свои бесплодные и иллюзорные искания, которые, как он понимал только теперь, были не чем иным, как оправданием собственного бездействия. Как уничижительно и неоправданно он прежде клял мальчика, в жилах которого текла его родная кровь! Как трусливо и лицемерно он закрывал глаза на неоспоримое сходство! С каким завидным постоянством он отрицал громогласно звучащую правду! Глупец! О, в нынешних обстоятельствах мрачная темница представлялась ему обетованным раем, и он был готов посвятить всю свою оставшуюся жизнь страданию и неизбежному угасанию в нём. В порывах самобичевания он звал смерть, как сердечную подругу и любящую мать, дабы она своим целебным воздействием помогла ему до конца искупить вину жизни, обновить его душу и одарить сладостной лёгкостью бытия. Но уже в следующее мгновение он с жаром отрекался от этой мысли, видя в ней лишь привлекательный, но слишком простой и недостойный выход.
Понемногу волнение улеглось в его сердце, и им незаметно завладела горестная тоска. Аббат подошёл к решётчатому оконцу и устремил застывший в непреходящей думе взор в сумрачную даль. Чувство нежного и томительного прощания с природой, с миром, с людьми охватило всё его существо, а алый закат показался невыразимо прекрасным, поистине удивительным и волшебным в своей пышной красочности и одухотворённом величии. О, неужели ему суждено вскоре покинуть столь чудный мир? Верхушки дерев чернели на фоне зарева, и он остро чувствовал, как вместе с уходящим солнцем угасает и его жизнь.
Вдруг что-то необъяснимо чужое привиделось мужчине в алеющем небосклоне: над морем недвижного леса робко, словно таясь, поплыл серый дымок. Завиваясь ажурными кольцами и постепенно сгущаясь, он поднимался всё выше и выше над раскидистым лесом, заполняя темнеющий небосвод сумрачным и тревожным чадом. И вот уже не закатные лучи солнца озаряли усталую землю: то были всполохи разгорающегося с невероятной силой пожара. Внезапно Альберт с ужасом понял, что в той стороне располагается их город, и горит, вероятно, именно он. Запах сожжённого дерева ветром доносился до герцогского замка и проникал на вершину башни пленника сквозь узкий просвет бойницы. Издалека послышался гулкий и тягучий звон набатного колокола, рыдающе созывающий всех людей на борьбу с самым опасным и непредсказуемым врагом — природной стихией. Жаркое солнце было тому причиной или чья-то роковая неосторожность: огонь беспощадно заполонял собой дома, огороды, поля и виноградники, методично уничтожая всё то, что с такими чаяниями и трудом терпеливо возводили люди год за годом. Его невероятная мощь и быстрота распространения не оставляли даже крохотной надежды на более или менее благополучный исход в душе каждого горожанина. Всё пошло прахом, вся их прежняя жизнь оказалась лишь приготовлением к такому неожиданному и разрушительному концу. Всюду раздавался плач и звучал крик, кто-то, слепо жертвуя своей жизнью, пытался спасти от огня крохи былого достатка, забегая в объятые пожаром дома и навек пропадая в их трескучем чреве. Альберт не слышал отчаянной суеты погибающего города: только яркие вспышки, точно молнии, проносились в багровых небесах пред его широко открытыми глазами. Его сердце переполняло удовлетворение от увиденного.
Внезапно позади него с грохотом и лязгом приоткрылась железная дверь, и на пороге убогой темницы показалась высокая царственная фигура женщины. Она стояла на самом проходе, не делая ни шага в суровое обиталище аббата, её бледное лицо прерывисто освещали яркие всполохи бушевавшего на небе зарева пожара, сообщая ему грозное и даже воинственное выражение. Словно высший судия, Аталия появилась на пороге его последнего пристанища.
— Все встревожены пожаром, — кратко произнесла она, и от её слов на мужчину повеяло стылым холодом. — Мы одни здесь: нет ни стражи, ни герцога. Вероятно, ты изумлён и сейчас задаёшься вопросом: зачем я посетила тебя. Вероятно, в твоём сердце остался один только гнев по отношению к бывшей подруге и наперснице твоих потаённых дум. Но поверь мне: меньше всего на свете я желаю твоей погибели! Я пришла с единственной целью — освободить тебя. Волей небес, случилось так, что твои бдительные стражники покинули свой пост и отправились к горящему городу. Хозяин земель должен поддерживать жителей в любой беде и грозном несчастии. Так воспользуйся же тем, что само идёт тебе в руки! Уходи отсюда, милый Альберт! Эта отвратительная темница создана не для таких величавых и чистых душ, как твоя! Умоляю тебя, скорее уходи, пока не вернулись твои защитники, усердно стерегущие тебя для одной только гибели! Ступай же, дорога свободна и безлюдна.
Она отступила на шаг в сторону, и перед Альбертом показался чёрный провал выхода. Не дождавшись ни ответных слов, ни каких-либо движений навстречу, Аталия устало вздохнула и произнесла тихим и отстранённым голосом, звучащим неожиданно мягко после холодных и излишне рассудительных речей:
— Знаешь, я нисколько не удивлена твоим молчанием. Да, могу признать, что я даже ожидала этого. Твоя высокородная честь не позволяет удостоить каким-либо ответом человека, сделавшего так много зла, ненавистного тебе и презираемого всей твоей широкой и бескорыстной душой. Сможешь ли ты выслушать меня? Сможет ли твой чуткий слух вытерпеть жалкие попытки моего оправдания?
По-прежнему не отвечая ни слова, аббат повернулся к окну и снова устремил недвижный взор на пляшущие в небе колыхания огня, виднеющиеся за сумрачной границей леса. Любовь к этой женщине оказалась для него отравленным хитоном Несса*, но, даже понимая это, он не мог изгнать из своей души тёплую сердечную привязанность к ней. Аталия не ушла и, по-своему расценив молчание мужчины, сначала робким шёпотом, а потом голосом, исполненным просыпающейся силы и глубины, повела свой рассказ. И слова её походили на покаянную исповедь пред обманутым ею бывшим мужем и возлюбленным. Ничто так не смягчает сердце женщины, как разделённая между двоими тайна, прежде тяготившая её. Однако её мягкий грудной голос не дрожал и не прерывался, обретая по мере рассказа свойственные ему властность и решительность. Казалось, ей жизненно необходимо было выговориться, облегчить ношу знания в своём сердце, но не испросить прощения, хотя оно, несомненно, значительно уменьшило бы печаль в её лазурных глазах.
Начав с самого начала — с раннего детства — она рассказывала о своих первых бедах и разочарованиях, о внезапно настигших её унижениях, боли и страданиях, о сиротстве и бедности, омрачивших её юные годы. Вступив в пору своего цветения, она вынуждена была довольствоваться столь малым, что её внешняя красота, возрастающая день ото дня, казалась ей насмешкой и упрёком судьбы. Она поведала Альберту о своём давнем страхе пред титулом, знатностью и богатством, о своём совершенно иррациональном желании обладания и стремления к роскоши, достатку и величию. Вспоминая их совместную тихую жизнь на лоне всепонимающей природы, она клялась в чистейшей и искренней любви к нему, тем не менее, не выдержавшей испытаний и не способной к жертвенности. Глубинное отторжение, внезапно вспорхнувшее из недр её детских воспоминаний, гнало её прочь от благоустроенной, но безвестной в сельской тиши жизни. Вся её женская сущность жаждала иной доли. Разве её можно в этом упрекнуть?
Альберт с изумлением слушал её оправдательные и эгоистичные речи, но зло и обида не зарождались в его душе. Чувствуя, что не корысть и не властолюбие влекли её, а только молниеносные порывы её чуткого и такого непостоянного сердца, мужчина просто не мог испытывать презрение и злость к этой женщине. “Ведь, по сути, все люди на этой грешной земле — эгоисты, — меланхолично подумал аббат. — Тем более женщины. Да разве теперь это имеет какое-либо значение?” Слушая некогда горячо любимый нежный голос Аталии, Альберт вдруг отчётливо понял, что её уход был неизбежен, но его прежние иллюзии и самообман, порождаемые слепой любовью, делали его поистине счастливым. “Вот какова природа счастья! — воскликнул он про себя. — Обман в основе всего! И кто бы мог подумать, что правда обладает такой губительной и разящей силой”.
Уверяя себя, что рождена для другой, лучшей жизни, Аталия рассказала, как, боясь непонимания её изменчивого поведения, она поспешно сбежала в ту роковую ночь вместе с маленьким ребёнком. Но решение её было тщательно обдуманным, а побег приуготовленным. Памятуя о том, что её отец некогда был бакалейщиком, на одной из ярмарок, на которые она часто удалялась в надежде на мимолётную радость, она познакомилась с бездетной, но очаровательной парой. Они оказались жителями славного города Шатору, обосновавшимися там после побега с разорённых войнами родных германских земель и держащими в своём доме маленькую бакалейную лавку. Обрадованная неожиданным и приятным знакомством, Аталия усмотрела в этой встрече высший знак. Не без страха и сожаления мальчик был отдан на воспитание этим добрым и благовоспитанным людям, которые более всего на свете желали иметь наследника. Вскоре судьба свела её с Беррийским герцогом, и она, сама того не заметив, оказалась здесь, в этом роскошном старинном замке, даже не ведая о том, насколько близко от неё находятся некогда покинутые ею родные люди. Таков был её рассказ, незатейливый и простой, но на сердце от которого лежит тяжёлая тень пережитых несчастий и потерь.
— Помнишь, ты как-то говорил мне, что в тебе нет веры в лживость прекрасного? Неужели ты и сейчас так думаешь, милый Альберт? — в её чистом голосе слышались вздохи неискоренимой и выстраданной грусти, а в лазурных глазах блестели жалостливые слёзы.
— Несомненно, — наконец промолвил Альберт первые слова в ответ на её долгую сердечную исповедь. — Красота — самое истинное и вечное, что есть в этом коварном и обманчивом мире. Она не подчиняется ни времени, ни людским изменчивым чувствам. Только ради неё и стоит жить, прелестная Аталия. Тот год был поистине счастливым, а наша жизнь была невероятно красива в своей обезоруживающей естественности и простоте. В моём сердце то время застыло навечно и непоколебимо, будто я и сейчас нахожусь на песчаном берегу журчащей сребристой реки неподалёку от нашей скромной и уютной хижины. Если красота правдива хоть на какой-то миг, то это мгновение — вечно, а красота — истинна.
С улыбкой и светящейся в глазах радостью Аталия слушала его слова и вдруг, резко обернувшись и прислушавшись к чему-то, снова попыталась освободить теперь уже добровольного пленника, на что тот с досадой ответил:
— Я не могу покинуть это место, к которому с такой настойчивостью меня влекла сама судьба! Здесь моё искупление и здесь мой долгожданный конец.
— Но разве это не слабость? — отчаявшись воскликнула женщина и изумлённо всплеснула руками. — Призывать милосердную смерть — что может быть проще? Жить гораздо сложнее, ежечасно влача за собой постоянно удлиняющийся с годами шлейф проступков и грехов, печальных воспоминаний и сожалений. Нет, мой милый Альберт, искуплением должна быть не смерть, а жизнь, только жизнь! Вот что тебе предстоит сделать. Слушай меня внимательно и запоминай. В Порсиане, из которого мы так поспешно уехали, тебя ждёт твоя родная дочь, и воспитывает её уже много лет мой давний и верный друг-виноградарь. О, ещё один бедный человек, так жестоко обманутый мною! Я также слышала, что старый граф стал совсем плох, что его многочисленный двор опустел, что его старшие сыновья бесславно погибли в войнах и сражениях, что в его побелённой старостью голове не осталось ни надежды, ни отрады. Долой уныние, мой дорогой друг! Жизнь призывает тебя! Смотри, уже отступает страшная ночь и первые проблески утренней зари уже освещают дымную черноту небес. Совсем скоро стража прибудет обратно, и ты потеряешь свой последний шанс свободы. Пока есть время, пойдём же, Альберт, и я дам тебе в дорогу лучшего коня, смелого и выносливого, и благословлю тёплым поцелуем твоё последнее путешествие на родину. Дом зовёт тебя, и семья ждёт твоего возвращения. Пойдём со мной, вот так, не спеши, возьми меня за руку, обопрись на моё плечо. Я выведу тебя отсюда.
И они спустились вниз, где Альберта ожидал крепкий чёрный конь, привязанный к толстой и воткнутой в землю жерди. Бывший пленник отвязал исполненного энергии и сил скакуна и последовал за Аталией к выходу из замка. Выйдя за ворота, которые были заблаговременно приоткрыты и никем не охраняемы, Аталия одарила последним поцелуем отбывающего в дальние края мужчину.
— Скажи, счастлива ли ты теперь? — напоследок спросил он Аталию, ловко взбираясь на вороного коня, и её глубоко печальные глаза были ему красноречивым ответом.
Конь встал на дыбы и стремительно помчался по заросшей лесной дороге, освещённой первыми лучами нового дня. Ни одной живой души не встретил он на своём пути, и только руины сожженного города прощально приветствовали его издали. Он вдыхал запах пепла и гари, и ему чудилась обновлённая свежесть в этом насквозь затхлом запахе.
“Да, тысячу раз права милая Аталия, — вдохновенно размышлял Альберт, вихрем проносясь сквозь тлеющие поля и виноградники, безжалостно высушенные палящим солнцем. — Только жизнь способна искупить вину”. Впереди его ждала долгая и изнурительная дорога, в конце которой тепло мерцали примирение и надежда. Близился закат старинного порсианского графства, и старик-отец, всеми покинутый и разорённый, сидел на жалких останках былого величия, скорбящий, обнищавший, полубезумный и иссушенный свалившимися на него бедами. Он ждал возвращения младшего сына, верно и безнадежно, с раскаянием желая впервые принять родного сына на пороге гаснущего многовекового дома так, как должен принять его любящий отец. Ведь нет ничего ближе двух отдалённых и непримиримых сил.
Утром следующего дня, когда бывший аббат стремительно миновал протяжённые беррийские поля и был уже на полпути к месту, в котором сосредоточились все его помыслы и желания, объятый разрушительным пламенем город, наконец, затих. Его пустынные улицы были припорошены густым слоем золы и пыли, испещрены различными щепками, досками, упавшими от домов балками, и усеяны отбившимися от пристроек и городских стен камнями. Вокруг разрушенных и сгоревших селений царила удивительная тишина. Если бы слепой странник забрёл в это печальное утро в город, он бы, вероятно, посчитал, что дома объяты сладким и ничем не нарушаемым сном, что над жителями властвуют грёзы блаженных сновидений. И только терпкий запах гари смог бы наглядно объяснить ему страшную причину всеобщего молчания.
Однако при внимательном рассмотрении можно было заметить то тут, то там появляющиеся фигуры горестно шагающих людей: кто-то искал поддержки и сострадания на плече ближнего, кто-то разгребал обломки былого жилища, пытаясь найти под ними бренные останки родных, не избегших ужасной участи.
— Луиза, деточка моя, Луиза! — надрывно шептала идущая по дороге одинокая женщина, кутаясь в серый от грязи и пыли платок. Она вглядывалась в лица проходящих людей, останавливала беспризорно бегающих детей и также внимательно смотрела в их измазанные золой черты. На её узком скуластом лице застыло потерянное выражение, будто она совершенно не понимала, куда ей следует идти и зачем это нужно. Скелеты сгоревших домов, виднеющиеся по двум сторонам дороги, не вызывали у неё никаких чувств, кроме равнодушия. Она звала и звала кого-то, кто, возможно, так никогда и не откликнется на её ищущий зов.
Но, как это всегда и бывает, первые волны страха и ужаса прошли, отзвучал отчаянный плач, больше не слышалось далёкое эхо тревожных криков и стонов. С угрюмыми лицами, исполненными тоски и боли от потерь, люди ходили по руинам былого счастья, остро осознавая утрату прежних невинных радостей и благ. И в душе каждого человека, несмотря на близость произошедшей трагедии, уже зарождалась та внутренняя сила, которая обнаруживает себя даже при самых тяжёлых испытаниях.
На ступенях полуразрушенного крыльца одного из сгоревших домов на улице ремесленников устало сидел Луи. Под его ногами лежала упавшая на землю закоптевшая вывеска гончарной мастерской, перед его взором раскинулся пустырь, захламленный обломками его родного дома, а на его плечах разметались чёрные кудри задремавшей от изнеможения и тревог девушки. Ей больше не к кому было пойти, не у кого найти слова утешения и поддержки. “Как сильна связь между людьми во время обрушивающихся на них бед”, — с удивлением подумал Луи и вдруг увидел приближающуюся фигурку мальчика, в котором распознал своего друга Ганса.
Длинный походный холщовый плащ и перекинутая через плечо сумка делали мальчика старше и серьёзнее. Он более не походил на неоперившегося птенца, замкнутого и угрюмого, а наоборот: в его повзрослевшем лице появилась ранее не ведомая ему мягкость и решительность. Его плечи были гордо расправлены, а взгляд прям и чуть насмешлив. Луи аккуратно встал, стараясь не потревожить усталую девушку, и подложил под чёрную кудрявую головку снятый с себя бархатный жилет. Её курносый нос на мгновение недовольно поморщился, однако целительный сон всецело завладел ею. Юноша поспешил навстречу другу, тотчас же заметив его походное одеяние.
— Неужели ты уходишь? — изумлённо спросил Луи, не веря своим глазам, но в душе ожидая этого с того самого момента, как они вдвоём покинули тот проклятый герцогский замок, сокрытый в глубине леса. — Но как же мы, как же этот город, который вырастил тебя, как же, в конце концов, твои новообретённые родители?
Улыбка, показавшаяся на лице Ганса, ещё более поразила юношу, и он, будто сквозь толщу воды, услышал следующие слова, сказанные ровным и спокойным голосом:
— О, вы прекрасно обойдётесь без меня, иначе и быть не могло. А что касается моих так называемых родителей, то они, как ты помнишь, пали жертвой недавно пронёсшегося мора, а их свежие могилы я почтил сразу по возвращению из замка, заново приветствуя и одновременно навсегда прощаясь с ними.
В глазах мальчика всё ещё плескалась былая грусть, однако теперь её всё больше вытеснял мерцающий блеск и обретённое им знание. Ганс склонил голову набок, и тёмные пряди опустились на его бледный высокий лоб, оттеняя глубину чуть насмешливого взгляда.
— Не знаю, насколько ты запомнил уроки древнегреческой грамматики, — после непродолжительного молчания снова промолвил Ганс, — но одно изречение Гераклита вы должны были подробно разбирать вместе с наставником. Кажется, оно звучало так: “Я искал самого себя”. И, однажды услышав его, я часто задавался вопросом — где именно? Где он искал? На это у него нет ответа. Может быть, нужно идти дальше, вглубь веков, отделиться от этого города, этой захудалой и безвестной жизни, этого навсегда застывшего во времени аббатства? Путь зовёт меня, Луи, и я не в силах сопротивляться его манящему зову. Разорвав цепи с прошлым, скинув с плеч аббатскую хламиду, пропитанную ложными вероучениями и бессмысленными наставлениями, позабыв прежние привязанности и брезжившие в душе надежды, я смогу воочию познать и увидеть мир и живущих в нём людей. Я смогу почувствовать стоптанными ногами теплоту и холод чужих земель, вдохнуть их свободный и вольный воздух, и его свежесть скажет мне гораздо больше, чем тысячи прочитанных книг. И тогда — кто знает? — тогда новые истины откроются мне, и покой сокровенного знания прольётся в моё сердце. Быть может, Луи, в пути мне откроются удивительные вещи, неведомые и таинственные, полные самозабвенного ужаса. Но я готов вытерпеть все беды и преодолеть все трудности на моём пути, ибо этот путь верен и ведёт меня к самому себе.
В полной мере насладившись лицом опешившего друга, Ганс кратко рассмеялся, и в его смехе слышалась та незамутнённая премудростями лёгкая теплота, которой прежде ему так недоставало. Словно внезапно о чём-то вспомнив, он расстегнул сумку и вынул из неё свёрнутый лист пергамента. Развернув его, он показал листок другу, и Луи увидел свой собственный рисунок, над которым он долго и тщательно работал. На пергаменте было изображено лицо Ганса, с несколько изменёнными чертами, но всё равно прекрасно узнаваемое.
— Где ты нашёл его? — смутившись, спросил Луи и тут же сам вспомнил, как по неосторожности оставил свою работу в скриптории. — Я и сам знаю, что рисунок ещё не окончен и требует большой доработки. В общем-то, это моя первая попытка чьего-либо изображения, так что не суди за излишнюю резкость линий.
— Нет, ты что! — перебил его Ганс, сворачивая пергамент и снова убирая его в сумку, и продолжил более мягким тоном, — рисунок выполнен мастерской рукой, потому я и забираю его с собой, как напоминание об оставленном друге. Но, думаю, ты простишь меня, не так ли? Прощай же, Луи! Как бы мне ни хотелось этого, но я не могу позвать тебя вместе со мной: ведь каждый человек рано или поздно находит свой собственный путь и следует по нему до конца своих дней. Многие блуждают в потёмках, словно слепцы, жаждущие примкнуть к берегам самоцветного Фисона*, но и они направляются по своей дороге, предопределённой их волей, их мыслью, их стремлениями, т.е. судьбой. Я вижу, ты хочешь что-то сказать, Луи? Не стоит. Пройдёт время, и ты вспомнишь мои слова, и тогда они проникнут в самые тёмные уголки твоей души и осветят их новым, обновлённым разумом светом. Твоё место здесь, в этом разрушенном огнём городе, на этом пустынном пепелище. Твоя судьба — быть здесь, восстать на руинах прошлого и зародить новую жизнь. Новую, а от того ещё более прекрасную и чистую. Благо, её в тебе всегда было в достатке. Пусть же радость, вечно бурлящая в тебе, кипучая и полная ликования жизнь выльются наружу, сотворяя по-новому этот мир, так нелепо и скоропостижно утраченный ныне обездоленными людьми.
Друзья, не сговариваясь, оглянулись вокруг, и Луи, под влиянием сказанных Гансом слов, увидел вовсе не останки города и не его последний закат: новая жизнь зарождалась на обломках прошлого. И чем сильнее были разрушения, тем величественнее и крепче представлялись очертания будущего нового города, обновлённого стихией, ещё более оживлённого и изобильного, чем прежде.
— Знаешь, ты всегда был ближе к Богу, в отличие от меня, — со сдержанной горечью вдруг сказал мальчик. — Дремлющая в тебе животворящая сила, великолепное и поистине чудесное стремление к благу и счастью, способность творить и создавать нечто новое и непостижимое, — всё приближало тебя к высшему, роднило с рассеянным по всему земному миру великим знанием, приобщало к божественному. Наверное, именно поэтому я так стремился к тебе, словно хотел приблизиться к райской земле, которая впоследствии всегда оказывалась лишь пустынным оазисом, миражом, иллюзией. Только гораздо позже я ясно понял, что моя дорога уходит прочь и от тебя, и от этого места, а тяга к твоему подобию бессмысленна. Так я и решил уйти. Впрочем, что это за глупая болтовня? Будто оправдание пред неизбежным. Тем более то, чем нас так долго кормили в аббатстве, уже совершенно не волнует меня. Будто мы были и не люди вовсе.
— А мне внезапно вспомнилась ещё одна фраза Гераклита, — хрипло промолвил Луи и положил руку на плечо приятеля. — Кажется, это единственное, что я запомнил за всё бесконечное время обучения: “Один для меня — десять тысяч, если он наилучший”. Где бы ты ни был, в каком краю бы ни оказался, помни, что я всегда буду рядом с тобой, братом и защитником, что здесь всегда тебя будет ждать твой дом. Пусть мысли об этом не дадут тебе навечно увязнуть в топких снегах севера и помогут согреться твоему замёрзшему сердцу. Хотя я бы предпочёл, чтобы ты не забирался так далеко: хватит ли тебе сил и воли осуществить задуманное путешествие?
Внимательно посмотрев на юношу, Ганс заметил за его спиной проснувшуюся и сидящую на крыльце Мари. Она непонимающе наблюдала за приятелями, но не вмешивалась в их беседу, с присущей ей чуткостью ощущая, что происходит что-то важное и непоправимое.
— Никогда не сомневайся, Луи. Это самый гибельный путь. Следуй лишь зову своего сердца, и он непременно приведёт тебя именно туда, где ты и должен быть, — мальчик кивнул в сторону хрупкой темнокудрой девушки и добавил с глубоким вздохом, — наслаждайся же этой прекрасной жизнью, позабудь все ужасы и печали: впереди тебя ждёт много достойных и светлых, благородных и одухотворённых, созидающих и действенных, весёлых и беззаботных, поистине счастливых дней. Сам того не осознавая, ты уже обрёл всё то, что скрыто от меня в вечном сумраке, потеряно и обесценено мною же. Но я собираюсь исправить это. Прощай, Луи! Меня давно зовёт дорога. А у меня нет ни сил, ни желания сопротивляться этому громогласному зову. Где-то там меня, быть может, ожидает моя обитель, моё жилище, мой дом.
Они вышли за обожжённые ворота города, где Ганс, ступив на тропу, оказался совершенно один. И осознание этого вызвало на его лице счастливую улыбку. Он оглядел тёмные поля, и чувство радостного освобождения и возникающей из самых глубин внутренней силы заполонило его. Более не прощаясь, он пошёл своей дорогой, без страха смотря в широко открытые глаза раскинутого пред его ногами мира. Абрис его маленькой уходящей фигурки темнел вдали, постепенно утончаясь, пока полностью не исчез в туманной дали горизонта.
Где будет он? Что увидит? С какими препятствиями столкнётся на своём тернистом и долгом пути? Луи не знал этого. Но он чувствовал прежнюю связь с мальчиком, разорвать которую не способно ничто на этом свете. Сомнения более не одолевали его, и мир воцарился в его душе. Он верил, что с чем бы Гансу ни предстояло встретиться, он с достоинством справится с этим. Мальчик не замечал, но Луи видел всегда, что за глубокой душевной слабостью Ганса кроется стальной стержень и непоколебимая сила, рождающая стойкость. Помог ли он ему осознать эту силу? Луи надеялся, что да. Иначе ни за что не позволил бы ему отправиться в далёкое путешествие длиною в жизнь.
Юноша вернулся в город. У полуразрушенного крыльца стояла Мари, ожидая его с ободряющей улыбкой. С руин его бывшего дома спускался отец. “Я буду ждать”, — подумал Луи и смело направился навстречу собственной судьбе.
#6265 в Проза
#181 в Исторический роман
#2688 в Разное
#438 в Приключенческий роман
Отредактировано: 27.05.2016