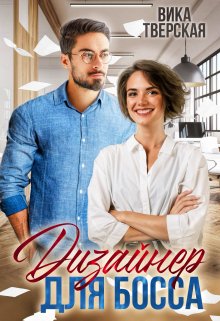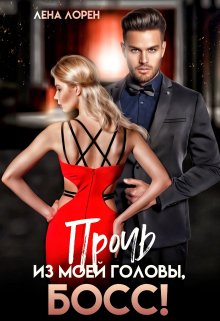Мой дед
Мой дед
Мой дед
Родственников по отцовской линии я не знаю, знаю лишь, что они были Егоровы, и что прадеда, крупного военачальника, расстреляли в 39-м, а семью его сослали в Среднюю Азию. Дед по матери-татарке происходил из клерикальной семьи, то есть отец его и деды были сплошь видными религиозными деятелями, один из них построил известную мечеть в Оренбурге (при караван-сарае), об этом рассказывал в одной из своих передач Юрий Сенкевич. Когда родню стали изводить, как класс, дед скрылся в соседней волости. Став со временем первым в ней комсомольцем, занялся организацией на местах комсомольских ячеек. Кончилась эта, без сомнения, убежденная и потому плодотворная деятельность лесоповалом - при выдвижении на более высокую должность нездоровое социальное происхождение вскрылось, и было осуждено.
Поработав два года на лесоповале, дед сбежал в дикую Туркмению, проступил в Красную армию и, скоро, став командиром эскадрона, принялся искоренять басмачество, да так успешно, что прославился на всю Среднюю Азию. Слава эта принесла ему одни неприятности – сам Ибрагим-бек объявил награду за его жизнь и жизни его жены Марии и сестры Гали.
Гале не повезло. Дед гонялся в пустыне за остатками одной из банд, когда в аул, в котором квартировал его эскадрон, пришли басмачи. Бабушке удалось спрятаться (три часа она пролежала, зарывшись в песок), а вот сестру поймали и распяли на стене дома. Дед влетел в селение в тот момент, когда ей делали «галстук».
Я хорошо помню тетю Галю. Она, мертвенно-бледная, приходила в клетчатом платке, из-под которого выбивались седые волосы, и длинном черном платье, садилась под виноградником на вынесенный мамой Марией стул и смотрела на нас глазами, ликующими от жизни. Мы знали, что тетке прорезали горло и в отверстие просунули язык, и потому она сумасшедшая и почти не разговаривает. Сейчас мне кажется, что после «галстука» до самой смерти жизнь ей смотрелась подарком, за который невозможно отдариться. И даже не жизнь - не было у нее жизни в нашем понимании - а возможность ее рассматривать, пусть не участвуя, пусть со стороны тихого своего помешательства.
После искоренения басмачества деда направили на работу в военкомат; скоро, как толковый специалист, он был рекомендован в партию. При проверке социальное происхождение выплыло вновь, но по большому счету всё обошлось - всего через год его неожиданно выпустили. Об этом моменте своей жизни, он рассказывал мне в ресторане, где мы обмывали получку (в студенчестве, у него, семидесятипятилетнего, подрабатывавшего бухгалтером, я подрабатывал писарем):
- Ну, выпустили, пошел в чайхану отметить событие, и чайханщик, он в эскадроне моем служил, спросил, знаю ли я, почему сижу у него, а не в трюме парохода, направляющегося в Магадан.
- Сам удивляюсь, Ахмед, - ответил я. - Может, ты знаешь почему? Расскажи, мне интересно.
- Тебе с начальником повезло, береги его, - сказал он, принеся поднос с двумя чайниками (в одном, конечно, водка), пиалой, сушеным урюком и тарелочкой дымящихся манту.
- Почему повезло? - выпив и закусив, спросил я, по возможности равнодушно.
- Недавно сидели у меня уважаемые люди - наш чекист Соловьев с военкомом, и военком, очень хорошо покушав, сказал - я все от тандыра слышал:
- С сыном твоим, Соловьев, все хорошо получилось, подсуетился я - возьмут его в училище. Скоро Чкаловым станет, с самим Сталиным за руку здороваться будет.
- Ой, спасибо, дорогой! Клянусь, я тебе пригожусь.
- А как там мой Давлетшин? Кончай там с ним скорей.
- Расстрелять что ли?
- Да нет, зачем расстрелять?! Выпусти. Нужен он мне, понимаешь, - и прошептал на ухо:
- Война на носу, сам знаешь, а он человек с понятием.
- Нужен - так нужен, хоть сейчас забирай, - сказал чекист и за дыню принялся, ты знаешь, какие у меня дыни!
Войну дед начал в тылу - до самой Курской дуги служил начальником распредпункта. Должность эта в те времена была теплее и хлебнее, чем в нынешние времена должность крупного чиновника, и жил он с семьей неплохо - хлеб был (бабушка рассказывала, гордясь, что однажды держала в руках целых три буханки). На пункт с половины Средней Азии привозили мобилизованных, дед их мыл, дезинфицировал, обучал неделю и отправлял на фронт.
Мама рассказывала мне об этом периоде жизни своего отца. Особенно ей запомнилось, как красноармейцы рыли ямы и закапывали в них тонны вшивой одежды - островерхие войлочные туркменские шапки, чепаны, чалмы и прочую среднеазиатскую экзотику.
На Курскую дугу дед попал по своей воле. Командир, который должен был везти очередную партию мобилизованных на фронт, заболел дизентерией, и он его заменил. На Дуге свободных полевых командиров не нашлось - понятно, - дед предложил услуги, и был отправлен на передовую. Рассказывая мне об этом, он сказал, что в первый день в окопах потерял больше людей, чем в атаке, потому что туркмены «голосовали за немцев».
- Голосовали?! - удивился я. – Как это?
- Да просто. Поднимут правую руку над бруствером и голосуют, - отвечал он, странно блестя глазами. - А немцы хохочут и стреляют одиночными, как в тире. Троих расстрелял... расстреляли перед строем, пока «выборы» прекратились.
С оставшимися красноармейцами дед проявил чудеса храбрости - через год, когда он, отозванный с фронта, вновь заведовал распредпунктом, его нашел орден Красной звезды, хотя дважды репрессированный беспартийный офицер вряд ли мог о нем и мечтать.
В сорок пятом, в Венгрии, в ходе одной из зачисток, дед с лихвой рассчитался за сытную и спокойную тыловую жизнь. В одном из подвалов Буды жизнь его круто переломилась - эсэсовец-гигант выскочил из-за угла, убил солдат, шедших впереди, и пошел, отбросив отказавший автомат, на деда. Тот разрядил в него свой трофейный «парабеллум», это не помогло - уж очень крупным был немец, и сапог эсэсовца ударил в пах, потом в живот. Чудом деду, весившему килограмм пятьдесят, удалось перевести бой в партер, в котором он, уже полумертвый, дотянулся до горла немца зубами.
- До сих пор помню вкус его крови… - говорил он мне, нервно сглатывая слюну.
Честно говоря, я не думаю, что дел воевал за Родину – слишком много он от нее вынес. Он просто был офицер и мужчина. А офицер и мужчина делает то, что нужно делать – защищает свою землю и свой народ.
После излечения деда разжаловали в старшие лейтенанты: в госпитале он с другими ранеными сбросил с пятого этажа немецкого летчика по какому-то недоразумению помещенного в палату с теми, кого он бомбил полдня назад. А что за контузия случилась в Буде, и что толкнуло его на этот безжалостный поступок, я узнал от матери. Оказывается, после той схватки с эсэсовцем, он не только был вынужден всю оставшуюся жизнь носить бандаж, прикрывавший брюшную грыжу, но и перестал быть мужчиной в известном смысле слова. После госпиталя и разжалования деда перевели в Вену, в чистилище, в нем он до сорок шестого года занимался денацификацией, слава богу, если вы не знаете, что это такое.
С войны дед мог и не вернуться – поезд в котором он ехал, спустили под откос бандеровцы, но ему повезло: опоздал, пойдя во Львове за кипятком и прочим. Жене он привез трофейные колечко с рубином и бриллиантами, такие же сережки, выменянные на что-то там в Вене. А сам устроился ревизором и дома появлялся раз в два месяца.
Вот такой был дед. И никакой трагедии в его внешности и поведении я не замечал, скорее, наоборот, весело он жил, никогда ни на что не жалуясь. К Сталину, дважды пытавшемуся его убить, относился серьезно. Все умел, мог сварить плов из топора, построить дом, любил выпить и повторить. И умер стоя. Час стоял, упершись об стол окоченевшими руками, пока бабушка не заподозрила неладное.
Найдутся люди, которые скажут: «Ну и человек был ваш дедушка… Боролся против народно-освободительного движения в Средней Азии, пол-войны в тылу просидел, потом расстреливал своих солдат. Дальше - больше. Зачистки в Буде - знаем, как это делается, видели в кино. Бросил гранату в подвал, потом посмотрел, кого убил - фашистов или перепуганных мадьярских детей. А перегрызенное горло? А убийство тяжелораненого пилота? А денацификация, то есть физическая ликвидация эсэсовцев?»
Да, это так. Но убийцей дед не был. Он жил в своем времени. Жил во времени, в котором расстреляли почти всех его родственников, в том числе, отца и мать. А человек, у которого расстреляли почти всех родственников, в том числе, отца и мать, относится к жизни несколько иначе, чем просто человек.
Работая ревизором, он никого не посадил. Он просто говорил: этот дом построен из меньшего количества кирпичей, чем было осмечено. Если я завтра не увижу из своего окна недостающее, передам дело в прокуратуру. Наивно, конечно, но человек, который дважды сидел, не мог никого посадить.
#33524 в Проза
#19154 в Современная проза
репрессии, борьба за советскую власть, великая отечественная война
Отредактировано: 27.10.2017