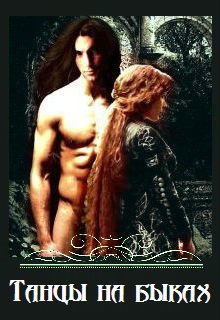Морская любовь
Морская любовь
Я любил ее – повариху Люсю – в том давнем, первом моем рейсе. Как и положено мужчине – желудком. Да и не я один – весь экипаж, исключая разве вредную буфетчицу, восторгался ею. Не была Люся красавицей, но в условиях морского уединения казалась очень милой. Готовила замечательно, что для кока большая редкость. И, главное, не была стервой, что по морским меркам возносило ее в лик мадонны.
По прошествии времени цвета глаз Люси я не помню. Помню ее изящные, хрупкие руки, щедро подкладывающие в мою тарелку лишнюю котлету. Клянусь, ко мне Люся тоже была неравнодушна. То и дело спрашивала, наелся ли я, не положить ли добавки. Злые языки твердили, что я просто напоминаю ей младшего братишку – того, верно, тоже не прокормить. Но пусть эта клевета останется на их совести!
Итак, любили Люсю все. Но то была платоническая любовь – оставаясь приветливой со всеми, Люся держала одинаково равную дистанцию с каждым, не взирая на должности и оклады.
Платоническая любовь – это счастье. В море – вдвойне. Потому как на берегу счастье это может быть омрачено любовью земной. А море есть море, и любовь, стало быть, здесь иная. Неземная. В смысле морская. И в нашем случае вышло так, что, вопреки законам математики, два плюса дали вдруг минус, и морская платоническая любовь у одного из членов экипажа обрела прямо-таки патологическую форму.
Вообще моряки все чуточку ненормальны. Какой же нормальный человек в море пойдет? В этом я абсолютно убежден, никогда от своего убеждения не откажусь и унесу с собой в чрево акулы. Но порой встречаются уж такие индивидуумы!..
Электромеханик, запамятовал, который по должности, был как раз из их числа. Занимался йогой, без устали сыпал в досужих беседах непонятными словечками, типа «карма» и «чакра» (первое поначалу ошибочно принимали за корму судна, второе – за оскорбление в свой адрес) и в хорошую погоду исправно высиживал по часу-полтора в позе лотоса на шлюпочной палубе. И, понимаю я теперь, его неизмеримо высокая пред нами, убогими, степень духовного развития и позволили достичь вершины платонической морской любви. И в одну из ночей…
В одну из ночей, когда полная, как и подобает в такой тревожный момент, луна то взлетала резко вверх, то стремительно падала вниз – судно качало, - Люся вдруг проснулась от копошения сбоку. Ошеломленно приподнявшись, она разглядела укладывающуюся рядом фигуру. Дверей каюты Люся не запирала, конечно уж не ожидая вероломства ни с чьей стороны. Дрожащей не от страха – от негодования – рукой она нашарила, наконец, включатель надкоечной лампочки, и через мгновение неяркий огонек завяз в окладистой бороде электромеханика.
-Тих, тих, - опасливо зашептал тот. – Я ничего делать не буду, я только рядом полежу!
Пропавший было у Люси голос нашелся, и, вскочив, она гневно высказала подобающие случаю слова, многократно усиленные пустым коридором. И через пару минут перед дверьми Люсиной каюты – как только уместились? – стояла добрая четверть экипажа.
После той ночи покаянный электромех стал просиживать на шлюпочной палубе вдвое больше времени. Выговор ему не влепили – ситуация не укладывалась в рамки морских уставов, но на вид – для верности – поставили. А матросы при встрече с горе-героем сочуственно разводили руками:
- Что же ты, братишка, вякнул, что просто полежишь? С таким же успехом она могла и бревно рядом положить. «Делать ничего не буду». Вот кабы ты чего-нибудь изобразил, глядишь, она бы шум и не подняла.
Много воды утекло с тех пор. И вот недавно, прогуливаясь вдоль берега моря, я встретил его, электромеханика. Мы приветствовали друг друга – всегда подашь руку человеку, с которым выпадало делить радости и трудности морского бытия. А ведь с ним я делил и морскую любовь! Но поговорили недолго – мешало мое волнение, ибо я все не решался высказать ему то, что не давало покоя моей душе столько лет. И лишь когда он, сердечно попрощавшись, пошел прочь и уже вряд ли мог меня слышать, я все-таки сказал – я не мог не сказать этого!
- Электромех, а что если… Что если матросы были правы?
Ветер унес мои слова в открытое море.