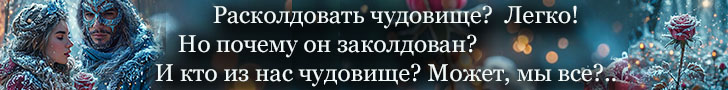На даче
На даче
- Дедушка, а ужи кусаются?
- Нет, они щекотятся.
- Как это?
- Известно как. Вот если он корове под вымя заползёт, пощекотит её, то с тех пор корова больше молока давать не будет, потому как берёт он сосок губами очень нежно. Привыкает корова к этому и грубых рук больше не потерпит.
- И гадюка тоже?
- Нет, гадюка так не умеет.
- Как же они добираются?
- Хитрая гадина. Ласкаю берёт. И корова это знает. Если пастух не уследил, считай, пропала скотина. И мясо после этого становится у неё горькое, так что есть не возможно.
- И что же тогда с нею делать?
- Трава есть особая, если ею кормить, через некоторое время опять появится молоко.
- И мясо перестанет быть горьким?
- И мясо… Ты почему бабку не слушаешь?
- Я слушаю.
- Где ж ты слушаешь? Что она тебе не скажет, ты всё наоборот делаешь.
- Не делаю.
- И мать не слушаешься, и бабку. Одного отца ты уважаешь. Ох, вонючий ты мужик, Вовка.
- И ничего я не вонючий.
- Вонючий,- растягивая на букву ю, но без злобы и ехидства, заключает старик.
Какое-то время оба молча смотрят на угасающий костёр, но каждый думает о своём. Дед сжигает мусор в закутке участка: бытовые отходы, прошлогоднюю листву, ветки после обрезки, траву, выдернутую с грядок. Рядом с костром находится большая ёмкость лимонного цвета с водой, с другой стороны из темноты к свету тянет свои покрытые крупной листвой ветви раскидистая яблоня, и уже совсем в глубине участка возле штакетника забора едва различимы колючие заросли малины. Из-за сырости материала, огонь горит слабо, то и дело затухает и начинает дымить. Тогда становится прохладно, и комары, до того боявшиеся подлететь к людям, становятся смелее. Не помогает горению и то, что семилетний внук Вовка ради интереса периодически исподтишка швырнёт в костёр то кусок земли, то мокрую тряпку. Наконец, старик решает подбросить сухих дров. Он встаёт и идёт к маленькой поленнице, рядом с которой на утрамбованной и высушенной земле топориком обтёсывает тонкие щепки. Подложив в середину вороха ветвей скомканный лист газеты, он накрывает его сухой корой и поджигает. Огонь занимается и видно, как ярко блестят глаза внука, страстно желающего, чтобы костёр разгорелся как можно выше. Старик аккуратно подкладывает щепки, пока не примутся свежие ветки, после чего садится на здоровый чурбак и закуривает. Вовка сидит на соседнем чурбаке поменьше, дёргает вокруг себя траву и кидает в костёр, ему не сидится спокойно на месте и тянет поговорить.
- Дед, а курить вкусно?
- Нет, не вкусно, - протяжно, как будто не хотя отвечает дед.
- А зачем же ты куришь?
- Привычка такая.
- А почему не бросишь?
- Бросал уже, да вот опять начал.
- Зачем?
Старик что-то неразличимо бурчит в ответ, затем бросает окурок в кучу и начинает раздувать костёр, который вот-вот грозит погаснуть. Вовке скучно, он хлюпает носом и смотрит как тлеющие щепки раскаляются докрасна от потока воздуха, но тут же остывают, стоит только перестать дуть. Дед старается долго и интенсивно, пока не защиплет в глазах от валящего дыма, тогда он отходит и, усаживаясь на свой чурбак, вытирает испарину со лба, как вдруг огонь сам собой начинает пробиваться из-под ветвей на радость обоим.
- Нанырялся? Нос вон совсем не дышит, - спрашивает старик.
Он прижимает к носу внука полу своей старенькой рабочей куртки, пропитанной чем-то маслянистым и вонючим, отчего становится жутко неприятно. Высморкавшись, мальчик вытирает лицо рукавом свитера и продолжает смотреть на костёр.
- Деда, а ты бабушку слушал?
- Какую бабушку, - не понимает старик.
- Ну свою бабушку. У тебя же была бабушка?
- Всякое случалось, бывало, что и не слушал.
- А расскажи, как не слушал.
- Да такой же, как ты был пистолет, а вот теперь… Помрут дед с бабкой, вспомнишь ещё их, да поздно будет. Эх, Вовка.
Он крепко прижимает внука к себе, который вырывается и продолжает сидеть независимо рядом.
- Дед, а где ты жил до войны?
- Что? - На посёлке.
Какое-то время он молчит и, кажется, что-то вспоминает. Неожиданно он начинает рассказывать сам собой:
- В это время, вернёшься с гулянья домой, мать уже спит, а жрать-то охота. Проберёшься среди спящих, кто на скамейке, а кто и на полу лежит. Смотришь, кострюля на столе стоит, тёплая ещё, подогревать не надо, хорошо. «Вовка, - шепчет мать, - ты чего там копошишься?» «Да ничего, спите», - говорю. Открыл кострюлю, а тарелку-то искать темно. Нагнулся значит, приподнял её с одного боку, набрал полный рот, хлебнул. Что-то жидкие щи мать сварила в этот раз, думаю, а сам жую застрявшую между зубов капусту. А вкусно после гулянья. Весь день-то нежрамши. «Вовка, там на окне, картошки отварила, кричит мне мать». «Да спите вы! Я уж щи поем», отвечаю. Гоношусь, значит, взрослый ведь, самостоятельный. – «Да где ж ты их поешь?» «Да тут, спите!» «Их ещё утром доели». Нет бы мать послушать, пропускаю мимо ушей, а сам кострюлю наклонил, ещё значит втянул в себя этих щей полный рот. Вдруг, что-то по губам меня, хлоп. Проглотил, значит, и опять к кастрюле. Снова тычется в рот, да мягкое такое и скользкое, как лягушонок. Пригляделся в темноте, тёмное что-то плавает. Мясо, да крупный шмоток. Дай думаю откушу. Зачерпнул половником, кусаю. Да что б тебя, это ж мочалка. Мать, как поели, не стала посуду мыть, кипятком только залила и тряпку туда бросила. Схватился за живот, только и успел до крыльца добежать, так эти щи наружу запросились.
- Как это наружу.
Старик не отвечает, а только кряхтит и смотрит на костёр, как будто забыв о внуке.
- Вкусные щи, думаю, жидкие только, - произносит он протяжно, задумчиво и еле слышно.
- А сколько тебе лет было?
- Что? Да большой уже был дурак. Другой раз с братом в баню решили пойти…
Он делает паузу.
- Ну да это тебе рано ещё слушать… Тоже дело было.