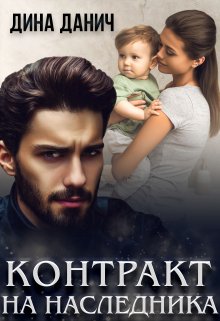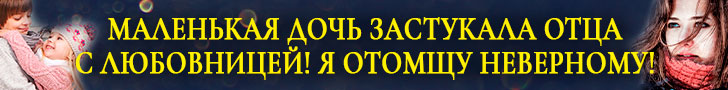Накрашу губы
Накрашу губы
-Что, если выбрать черный? - тихо спросил он у своего отражения, грустно улыбнувшись. - Черный - цвет хороший, лучше красного, хоть и тоже заметный, но не так же, правда? Да верно, верно...черный — хороший цвет, жаль у меня его нет!
Рука дрожит. Леша чувствует, как она дрожит — палец за пальцем, цепь нервов, раздраженных, возбужденных нервов, протянутых в тугую сеть — всего лишь одно движение, а потом еще одно и почти все готово! Но это тяжелее чем кажется: каждое, пусть даже самое мимолетное движение рождает новую мысль, на каждое «за» обязательно находится два «против»; это куда как сложнее, чем представлялось ему еще всего полчаса назад. Рука неизменно дрожит. В уголке глаз начинает скапливаться влага: «что же, что же, почему так сложно?» - он кусает губы, делает руку дрожащей и, не мигая, смотрит на продолговатый предмет. Решиться на это — значит решиться на все.
-Значит, на все... - шепчет он, в легком исступлении и словно бы сам себе не веря. Легкие покачивание его головы ему незаметны. Рука его дрожит и, чтобы унять дрожь, он вцепляется левой в кисть дрожащей.
-Леха! Ле-е-ха! - кричит из соседней комнаты отец. - Сюда поди, бля, да побыстрее!
-Да, сейчас! - кричит отцу и, испугавшись, прячет предмет дрожания в карман. Сердце стучит. Внутренностью поезда шумит его сердце, а дыхание учащается, зрачки увеличиваются — почти пойман, почти застукан!
Отец кричит, чтобы он быстрее бежал к нему, пьющему, сидевшему возле телевизора и смотрящему новости. Отец...отец, ветеран бессмысленных войн и глупец, не понимающий очевидного — отец, не прощающий никогда, никогда бы не понявший, никогда не принявший бы этого, увидь он воочию предмет в левом кармане джинс; что он понимает, раз никогда не поймет самого важного? Он глуп, да, этот отец, он ужасно глуп — в его существовании нет смысла, не бытового, а того, сверху — зачем он зовет Лешу в этот раз в зал, ради чего отрывает его от процесса, который формирует, который лепит ваятелем внутренности Леши, выпестовывает самую его суть?
«Да, папа. Нет, папа. Ну хорошо, давай снова посмотрим. Забавно. А что там на Востоке, убили вновь кого-то из плохих или из хороших? Плохие, хорошие...другие, папа, или же называть тебя нужно «отцом»? Какая разница, кто из них кто? А, для тебя есть разница...Ты всегда и весь в этом, папа: для тебя всегда есть разница, ты не видишь человека в человеке, не видишь в них удивительной красоты — только лишь плохих, очень плохих, омерзительных, папа...Кого опять убили? Что, снова наступление? Ну что же, все как всегда, папа. Плохие гибнут, а хорошие продолжают жить — или же наоборот. Ты не поймешь. Нет. Нет. Нет...»
-Че, Леха, круто они этих, да? - с восторгом прикрикивал он, свое внимание распределяя между сводкой и сыном. - А этот, ты гля, гля! Сучок, смотри как выскочил! - смеется папа, улыбаясь и запивая улыбку пивом. - Гляди, я уже видел, ща повтор будет, в левый, в левый смотри! Ну! И сейчас...вот как он, а! - радуется отец, но ловит взгляд сына.
Мгновенно он меняется в лице и чуть не кидается на него с кулаками. Летят обрывки фраз и словосочетаний: «что за взгляд, как посмел, покажу тебе, как не уважать папу» - Леша с опущенными глазами стоит и смотрит себе под ноги.
-Прости. - тихо говорит он. - Просто я занят.
-Чем ты там таким занят? - кричит он, все-таки встав и отвесив ему подзатыльник. - Что, сложно посмотреть, да, переломишься?
-Нет, папа, просто много делать по учебе...
-А ну заткнись! - кричит отец, отвешивает ему еще одного и кричит в сердцах. - Ну, что стоишь? Иди, если не хочешь посмотреть на настоящих мужиков с папкой со своим. Иди!
-Папа, я...
-Иди отсюда, ты, - толкает его отец и вслед кидает еще одну затрещину. - не смей вообще мне на глаза попадаться сегодня, понял...
Дверь закрывается. В комнате темно, свет выключен, стол освещается лампой для чтения. Идеальная поверхность стола чиста — все, что нужно, давным-давно спрятано: кое-что в кармане, кое-что в ящике, а кое-что лежит в пакете под кроватью. Из-за двери слышно, как бубнит отец, как бубнит телевизор — звуки сплетаются в звук неприязни, звук отчуждения и...неправильности? Так, кажется; все вокруг Леши пахнет глупостью, нетерпимостью, злобой, когда сам он пахнет пока еще тяжелым днем, который может стать днем либо ужасным, либо восхитительным; лишь бы решиться! Лишь бы рука не подвела, лишь бы, лишь бы...
«Я крал, я обманывал, я выменивал ради этого дня, ради этой уверенности — так почему же я не могу решиться?» - качая головой, думает он. У него в голове смешиваются образы, слова, реакции: первой представляется картина избиения отцом. Она будет, о да: только увидев его, он рассвирепеет, он накинется на него, повалит на спину и будет колотить — такого никогда до этого не было, но если рука не дрогнет, то так станет: «будет бить меня, грушу во мне увидит, а не сына, вот в чем дело» - все качает головой Леша. Будет много всякого: когда он встанет, он потащит меня к окну, вытащит, покажет окровавленное лицо целому району и будет кричать, мол, это не его сын, это кто-то на него похожий!
-Ну хотя нет. - находит силы для улыбки Леша. - такое вряд ли будет.
Но будет много другого, если рука не дрогнет. Слова будут жалить пчелами, руки будут хлестать ветками, будут гнать камнями, будут придумывать прозвища, самое худшее — начнут отворачиваться, будут говорить, что никогда не знали Леши, никогда не общались с ним, никогда не называли его и не подзывали; да, это самое худшее! Раны затягиваются, пусть и остаются рубцами — их всегда можно чем-то замазать, сказать, что так и было; что же можно сделать с таким обращением? Это ранит куда как глубже, куда как больнее — разбивает оболочку кирпичом нетерпимости, выворачивает внутренности открывашкой ненависти, чужие лица, морщась, оставляют рваные борозды на ранимой душе, а хохот и ухмылки будут преследовать долго, бесконечно долго — оттого ли рука дрожит или еще почему-то?
-Ты же решил. - сам себе шепчет Леша, пытаясь набраться храбрости. -ну давай же, ну же, будь сильным...
Рука с украденной помадой дрожит. Движение ужасно просто — провернуть крышку, поднести к лицу, достать другой рукой зеркальце и храбро нанести ее на губы; что же тут сложного? Разве не ради этого она была украдена — чтобы быть нанесенной на бледные губы молодого и худенького мальчика, внезапно ощутившего себя вовсе не тем, кем он был? Рука все дрожит. Украденные и выменянные вещи якобы для сестры лежат в пакете, старый мамин парик лежит там же, лака для ногтей он найти и украсть так и не смог, но для этого дела впервой подойдет и белый дурнопахнущий корректор, который нужен лишь для завершения образа, а не ради эстетики; почему она все еще дрожит? Рука — продолжение тела, продолжение мысли, сомнение, воплощенное в конкретном, а не абстрактном; вот же как бывает-то глупо: приходишь к осознанию, решаешься, а в последний момент словно бы замираешь перед прыжком с вышки в воду — в голове мысли навроде: «Выживу ли? Разобьюсь ли? Как будут смотреть на меня те, снизу? Поймут ли, зачем? Поймут ли, как? Пойму ли я сам, да и нужно ли мне это понятие?» - и Леша уже не дрожит, а трясется, потому что становится страшно, потому что если на губах останется что-то чужое, то пути назад уже не будет. Выбор будет сделан. И дорога под ногами его пошатнется, а вослед полетят тумаки и затрещины, которых никогда не бывало прежде...
Возвращение, цикличность, шепот.
-Я не слабый, нет, я смогу, ведь решил...
И воспоминание, как впервые что-то родилось внутри, как что-то поменялось и стало сначала просто мыслью, после — повторенной мыслью, а после — больше чем мыслью; это накатывало на него лавиной, становясь сначала идеей, потом манией, а уже после — настоящим наваждением. Это ростком попало в его пустыню, а следом пошел нежданный дождь — вот оно и росло и крепло, не способное устоять силам природы, закономерности, не способное бороться с самим естеством этой мысли, как бы он поначалу сам в это не верил! Шутка, породившее в нем это, была обычной, была невинной и даже в чем-то незаметной; в компании Леши так шутили постоянно, о подобном постоянно говорили и относились к этому куда как проще, нежели он сейчас. Однажды он сидел с друзьями, беззаботно говорил что-то о себе, когда один из друзей прервал его фразой о его, Лешиных, губах.
-Как у бабы, бля, - приговаривал он, улыбаясь. - Хоть крась, хоть в темной комнате целуй — хер отличишь!
Компания смеялась в тот день, Леша не придал этому значения. Но что-то изменилось. Придя домой, он в шутку бросил взгляд в зеркало на них и, смеясь, тихо сказал:
-Да, хороши! - а перед сном дотронулся до них и на секунду представил, что трогает лицо женщины.
Наутро он и не вспомнил об этом. Но это вспомнилось само: постепенно, с каждым разом все сильнее это занимало свои мысли. Изредка Леша заглядывался на свои руки, на свои ноги, в шутку сводил их и приговаривал:
-Какие...
Пока однажды с ужасом не признался себе в том, что больше всего на свете хочет никак не дрожащих рук и силы, чтобы наконец одеться в то, что не душит и не сковывает, чтобы маленьким движением освободиться, чтобы тонкой или толстой линией раскрыть себя этому миру — и верить, верить черт возьми, верить, что он хотя бы немного не будет жесток, что хотя бы на мгновение он примет Лешу, глупого, худого, с накрашенными губами и немного грустной улыбкой, вычерченной на перекошенном от побоев лице! Как же ему вдруг этого захотелось!
Стоит лишь решиться...мир заиграет новыми красками, а не только лишь той, которой будут накрашены губы — все изменится навсегда, все станет или совсем хорошо, или же совсем плохо. Отвернутся друзья. Выгонит из дома отец. Соседи будут молча пялиться, а все те девочки, которые будут идти мимо, будут раскрывать от удивления рты...Местные пацаны, только завидев его, набросятся с кулаками, и никто, никто, никто больше не захочет сказать ему, как раньше, окликнуть:
-Леха! Эй, Лех, я тут!
И имя его забудется — он станет «этим», без имени, положения и статуса. Общественность проклянет, вороном заклюет его снаружи и изнутри, будет заставлять его, ломать, пытаться вернуть к этому — вот в голове у Леши снова картина ужаснее прежней: как отец, плачущий, пьяный, пинками и матом ведет его к размалеванной женщине не первой свежести, так, для того лишь, чтобы «сына мужиком сделать»...
-Это смешно, - шепчет снова сам себе Леша. В глазах его блестят слезы от грядущего унижения, пока рука начинает подниматься, но замирает у груди.- это правда смешно, папа, и вполне в твоем стиле, да, или что-то в этом роде, пап...
Будет, конечно — все это будет, да и причем в таких количествах, которые ему и не снились. Но разве адом все может это быть, разве это ДОЛЖНО им быть, и не должно быть чем-то совершенно другим? Фантазия, разделение на белое и черное: мир обязан заиграть красками, пусть даже придуманными красками, пусть, пусть...да, к черту, пусть! Ни одно унижение, ни один удар словесного или холодного ножа, ни одно причмокивание неудовольствия не стоят всего лишь одного — надежды, кроме которой, увы, у Леши совсем ничего не осталось.
Рука почти перестала дрожать. Всего-то и нужно: поднять до конца, снять колпачок, улыбнуться и второй рукой придержать зеркальце, стараясь не увидеть свой затравленный взгляд. Всего-то и нужно: поверить, представить, как ловко можно прошмыгнуть мимо храпящего отца, когда пиво сделает свое дело. Представить, как вечером можно пройтись по ночному району, дыша наконец полной грудью, настоящей грудью свободного человека, которую не сдерживают условности, страхи, предчувствия...
Леша хотел было сказать сам себе вновь: «Как прекрасно!» - но слова не шли у него из горла. Его взгляд был затуманен; в своей фантазии он медленно переставлял ногу за ногой, его неуклюжие ноги в неудобной юбке чуть не запутывались, его смешное в тесной одежде тело не хотело слушаться, а парик готов был слететь — но там, в этой чудесной фантазии, он шел навстречу переменам, навстречу другой, правильной жизни — той, в которой можно было бы не бояться, можно было бы не разделять единый человечий лагерь на «этих» и «тех»; в фантазии рисовался мир, в котором Леша мог бы быть понятым даже своими друзьями, которые бы не отвернулись, и которые не стали бы из вежливости избегать его, когда как остальные предпочли бы ударить его, да посильней; в этом чудесном мире фантазии шел снег — прямо, как за окном. Яркой вспышкой случилось прекрасное: там, в голове, прямо на накрашенные губы Леши упала снежинка и начала медленно таять — и, разумеется, это было настолько прекрасно, что дрожать он уже начал всем остальным телом. Тогда как руки перестали — и ритуал, сулящий неизвестные, но перемены, наконец обязан был случиться.
Помада отдавала клубникой и жирностью на сухих от переживаний губах. И даже когда часом позже резина сапога раздирала ему все лицо, вперемешку с кровью и грязью он чувствовал этот прекрасный вкус, который отдавал желанным привкусом свободы.