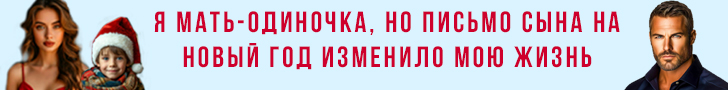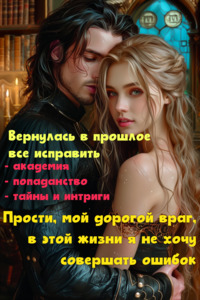Наречницы
Наречницы
Вроде и сказано было ещё в тёмные годы, что наречницы не злы, не добры, а бесстрастны; что не судят они, не клянут, не гневятся, а назначенье им одно – явиться на третью ночь к новой жизни и то изречь, о чём уже начертано богами.
Вроде сказано, да боятся матери – а ну как страшное услышишь? Задабривают, умасливают, угощенья готовят – наречницы непредсказуемы: когда возьмут, когда мимо пройдут – им ни кушаний не надо, ни питья, а внимание льстит, конечно – да только приговора наречниц это не смягчает.
Являются они на третью ночь в дом, да только дом им неинтересен: они и в лачугу приходят, что на отшибе, и в богатый дом явятся – и пёс не взлает ни один! Пройдут тенями – когда покажутся, когда точно ветром прошелестят…
Склонятся над колыбелью разом, и вещают – когда шёпотом ветра, а когда безветрие – на ухо матери или же старухе, что у ребёнка приставлена стражничать – и всё поведают. А там кричи или не кричи – наречницам всё равно. Ругайся или не ругайся – им и это без дела. Можно даже не слушать, да только сказано наречницами, а значит – не вывернешь.
Различные в появлении (и то от тоски своей или каприза ли?), они одинаково строги в прочем. Скажут и исчезнут.
Являются втроём, втроём уходят. Тени туда, тени обратно – и ничего не случилось, каждая мать сама решает, что ей с предсказанием делать.
На разные хитрости идут матери, рассудив, что иной раз лучше ничего не слышать, и пусть сказано будет в пустоту, чем наречено. Уносят ребёнка в соседний дом, кладут в колыбель не ребёнка, а куклу заранее из соломы сделанную. Проходит, конечно. Наречницы не злы, не добрые, они бесстрастны. Им всё равно куда говорить – хоть в пустоту. Не могут молчать.
А вот матери после колебаться начинают – а ну сказано было благое? Или, быть может, зная судьбину, можно было б и защитить дитя?..
Сиюминутный страх уже не кажется им страшным, а грызёт досада многие лета: надо было бы слышать! и поучают, состарившись, дочерей да невесток так, чтобы слушали наречниц, чтобы ждали их, да приветствовали, да умасливали.
–Где перехитрите, может, – вздыхают, вздыхают те, чьё знание уж было упущено. – Вот, Анисья-лиса! Как услышала, что её дочке вода грозит, так и испугалась. А после – крепко задумалась. Но она та ещё попрешница! Всегда спорила и с судьбою спорить стала. Ограждала дитя и от рек, и от болота, и даже в бане – глаз да глаз!
–Ну?
А что «ну»? вода она не только в реке водится. Не только в болоте мутнеет. Отпила дочка колодезной воды, за животом заболела. Чудно! Никто боле не заболел, а эта…
Слегла и в мучениях ушла.
–И толку-то?
–Тьфу ты! Знать тебе откуда, ветрогонка? Може и выхлопотала Анисья своими усилиями дочке годок или то боле?
Страшно, страшно знать матерям, что скажут наречницы. А не знать – сомнение и страх. Вот и прибегают к помощи старух, пироги подносят, да отрезы, а какая богаче – так муку сразу. Должно старухе сидеть третью ночь вместо матери и ждать, чего наречница скажет. А потом передавать. Так оно, вроде, услышано, а вроде и не так страшно. Обманка, конечно, а не всякая всё же выдержит самою ждать.
Старухам же почёт. Они и мудрее, и толковее. Возьмут подношение, ночку пересидят, а наутро объявят:
–Приходили три тени. Одна сказала, что быть сынку твоему статному да красивому, другая – богатому да умелому в деле, а третья – жизнь долгую рекла.
Хвала? Ага, жди! Опять не так! радуется мать. А потом усомнится – не солгано ль? Вдруг растёт сынок не статным, а худобен уж…вдруг и умом не удаётся. Как же так? не обман ли?
Бывает и обман. Какая ж согласится дурное передать? Сама ведь матерью была. Взмолится о том, чтоб дурное ей перешло за ложь, да выйдет радостная, да солжёт. Мать спокойна. А иной раз ведь и сойдётся!
Но добро, если жив. А если помер рано, то старухе, жизнь долгую показавшую, веры больше нет. Не зовут её, подношения не передают. Не кланяются. Солгала!
А та, что умней, если не хочет уж совсем радостное лгать, передаёт с дёгтем:
–Красив будет, да в любви несчастен. Руки золотые, да к хмелю не равнодушен. Жизнь будет смелая, да не длинная.
Всё одно к одному подогнано. И настоящие слова наречниц были хлеще, а старуха на свой лад передаёт, подмасливая, подтешая.
–Как боги скажут! – вздыхает мать.
Наречницы бесстрастны, а власть имеют. Боятся их, задабривают их, слов их приговорных и ждут, и плачут, проклиная (а вдруг дурное?). Но не нужна наречницам власть, не нужны им дары (только лести ради), и слова приговорные не сами рекут, а свыше стекают в пустые их тени.
***
Суждено было, похоже, Люнежке рано умереть. Всё с самого начала было не так – то упала неудачно, да так, что всё болело, и пришлось лежать; то мутило постоянно; то обморок. То слабость…
–Все у тебя по-дурному! – ругалась повитуха, но ругалась сочувствующе. Жалела молодую хрупкую жизнь, да досадовала. – Что же с тобой такое-то?
–Ты не голоси, – ответствовала мать Люнежки, да глянула на повитуху по-своему, как умела.
Повитуха и примолкла. Всё в этой женщине было нехорошо. И имя жёсткое, чужих краёв – Держена, и глаза тёмные, почти чёрные, и стан худой, и лицо белое, а губы тонкие, что нитка.