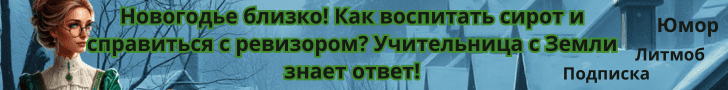Не друг
Не друг
Не друг
У Михася никогда не было друзей. И я ему другом не был.
— ...а другу моему, пану Анджею Ветвицкому, я оставляю домик в предместье, тот, который отошел мне от отца, а именно – светло-серый, с красною крышей и дверью, — бубнит поверенный, зачитывая многословное, неловкое завещание, писанное такой же рукой.
В прохладном кабинете за круглым столом нас всего трое: я, душеприказчик и какая-то дальняя родственница – мелкая серая мышка, сжимающая дырявыми перчатками неуместно яркую сумку. Те же алые пятна пламенеют у нее на щеках. Ну еще бы, такое наследство!
От мыслей о будущем мышки – в белом платье она лихо отплясывала канкан на столике ресторана – меня отвлекает поверенный. Он вручает мне стопку бумаг, требующих моего автографа, и затем только, тщательно проверив белые страницы, передает конверт. "Анджею".
Домой я иду пешком: хочется проветрить голову, отвлечься от... Просто не думать. Не ворочать в голове тяжкие булыжники вины и сожаления: а вот если? что, если бы? почему? Мироздание так устало от этих безмолвных вопросов, выплескиваемых в ноосферу, что отворачивается от своего создания и глядит куда-то в сторону.
А я смотрю на детей. Аллеи в парке забиты колясками с пухлощекими младенцами, на газонах зверьками шмыгают детишки постарше. Няньками и мамками заняты все лавки.
— Ай! — пищит кроха, что врезалась в меня. — Мне больно! — жалуется сверток одёжек, в котором нельзя определить ни мальчика, ни девочку.
— Ну извини. — Мне смешно от её (его) уверенности.
— Ладно, — кивает сверток и тут же исчезает – только слышен шум его быстрых шажков-прыжков.
Михась таким смелым отроду не был: сидел смирно там, где посадят, и слушался старших. В первый же день в лицее нас, десятилетних, рассаживали за столами по алфавиту. «Михал Адамчук, садись тут, впереди. Анджей Ветвицкий, ты будешь рядом.»
Только вот Михалом его никто не звал. Все слышали, как в первый же день мать окликнула его зычным голосом купчихи – Михась!
Это детское имя осталось с ним навсегда. И оно же на памятнике у него выбито, рядом с шаблонными словами сожаления. Наверняка кузина, серая мышка, заказала, как и унылую церемонию, на которую явились всего несколько человек.
Весь первый класс Михась следовал за мной, как утенок за матерью, не отступая, не отставая, – его неприметная физиономия то и дело обнаруживалась где-то за моим плечом. Наверное, он выбрал меня потому, что я единственный не бил и не обзывал его.
Сейчас, спустя четверть века, я все еще задаюсь вопросом: почему именно его выбрали жертвой? Были мальчишки меньше – Войцех, задиристый крохотный Войцех, уже сгинувший в имперских степях. Были и глупее – мычащий что-то себе под нос Лев, куда-то пропавший после четвертого класса. Но только Михась от злых слов сжимался и опускал голову.
Было мне его жаль? Или я брезговал им, как слепым щенком, который тыкался в ноги всем прохожим, беззащитный и доверчивый? Хочется помнить себя ребенком добрым, честным, храбрым и смелым. Вот только я таким не был. И мимо щенка прошел отвернувшись.
Незаметно я миную парк, прохожу вдоль набережной, усаженной платанами, и сворачиваю налево. Еще немного – и я у дома.
Мой дом отличается от пышных особняков соседей. Они свысока взирают на странное жилище, скалящееся на них стеклом и бетоном. Их портики брезгливо отводят римские носы от тупорылой кормы моего дома, как соседи от меня.
Михась часто бывал в нашем доме – тогда он ещё ничем не отличался от других, и соседи благосклонно кивали нам при встрече.
— У вас хорошо, — вздыхал Михась.
Я удивлялся: а чем плох его дом? Вполне пристойный особняк, не бедный, в хорошем районе.
— У вас все равно лучше.
Как-то так вышло, что я смирился с его присутствием, свыкся с ним и стал приглашать к себе. Мама его особенно жалела – всегда гладила по худым плечам и целовала в макушку на прощание. Впрочем, она отличалась редкой добротой, моя мама.
В классе третьем или четвертом Михась, отчаянно краснея, всучил мне блестящий конверт. На белой бумаге было столько виньеток, отпечатанных золотой краской, что текст совершенно терялся. Меня, достопочтенного пана, которому только недавно сшили длинные брюки, приглашали на семейный вечер в честь обручения. Чьего? Имен не было.
— Сестра. Старшая сестра. Моя, — сказал Михась неохотно.
Мне было любопытно, и я пошел. Мама, помню, смеялась, что скоро я стану светским львом и стану все вечера проводить на раутах, позабыв стариков родителей.
Скромный семейный вечер оказался не таким, к каким привык я. По анфиладе комнат бродили люди, изредка останавливаясь, чтобы обменяться сплетней-другой. Так, например, я узнал, что «Лизка навернякаа понесла, попомни мои слова» и «Слишком размахнулись Адамчуки, не их полета птичка залетела в сети-то».
А потом Михась подвел меня к семье.
— Мама, это Анджей, — представил он меня крупной женщине с острым взглядом темных глаз. За ее спиной стоял невысокий человечек – так вот в кого Михась. — Анджей, это моя мама, пани Катажина Адамчук.
— Очень, очень рада наконец познакомиться! — Она растянула губы в широкой улыбке – еще чуть-чуть и проглотит, – а в глазах ни капли радости. — Можешь звать меня просто пани Кася. Друзья моего Михася, моего глупыша, мне почти как семья.
— Хватит, Катажина, — поморщился отец. Он оглянулся по сторонам, а заметив кого-то знакомого, окликнул.
— Анджей, — продолжила пани Адамчук, схватив меня за руку, — а ты обручен?
Я оглянулся на Михася. Тот отступил назад, под защиту гобелена, на котором златовласая пастушка щеголяла в открытом платье. Честно говоря, этот гобелен был так же неуместен, как и расспросы напористой и бесцеремонной купчихи.
Когда мы – я – вырвались из ее цепких рук, гости уже успели поздравить пару. Михась подвел меня к высокой девице. Та крепко держалась за руку нареченного.
— А Михась не врал, и впрямь друг есть. Смотри, Франц, смотри, — она рассмеялась и дернула жениха за рукав. Потом, когда его внимание было привлечено, она вновь сосредоточилась на мне. — И хорошенький такой. Не то что ты, Михась.
Вся остальная семья Михася – дядья, тетки, кузены и кузины, братья и сестры, даже престарелая прабабка, – все они не вызвали у меня симпатии. Кажется, я понимаю, почему именно он стал первой и единственной жертвой нашего довольно спокойного класса. Над ним витал запах легкой добычи. Из него, как из подбитого утенка, сочилась кровь и оставляла следы повсюду. Добей – нашептывал инстинкт, и противостоять ему было очень сложно.
После вечера помолвки мое отношение к нему изменилось. До этого я воспринимал его частью обстановки – прилипала, банный лист, – а после Михась стал живым, стал человеком. Но не другом.
Юность пролетела быстро, я даже опомниться не успел, как уже примерял форму императорского университета. Михась хотел пойти вслед за мной – его баллов хватило бы на стипендию, – но пани Кася воспротивилась. Еще чего, тратить время зря! Купцу ни к чему дипломы, он должен счет знать, а уж с цифрами Михась обращаться умел.
Дома меня встречает тишина. Прислуга знает мои привычки и на глаза не показывается. Натертый пол расчерчен полосами света; пахнет пряно и свежо.
В зимнем саду душно, и я открываю французские окна. Издалека доносится песня: кто-то невидимый поет о любви – громко и нескладно, но от всей души. Устроившись рядом со своей любимицей, желтой каттлеей, наконец могу свободно вздохнуть. Оказывается, от напряжения у меня свело спину, и сейчас она ноет неприятно, напоминает о себе царапаньем острых коготков.