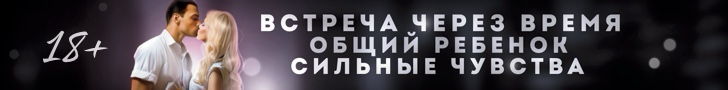Не к ночи будь помянута. Часть 1.
8.
Оставшись одна, я задумалась. Сколько лет я не отмечала собственный день рождения?
Дни скользили вокруг, время набирало скорость, разгонялось с каждым прожитым годом, а потом и вовсе потерялось, рассеялось, утратило своё вселенское значение.
Это в детстве – долгое пробуждение, когда вокруг ещё витают сны, прыгучее яркое утро, бесконечный, насыщенный день, медленные кисельные сумерки, тёмный вечер … а потом приходит ночь, и по углам густеют и наводят страх тени, а веки сладко тяжелеют.
А в юности – быстрее, быстрее проснуться, умыться, побежать, успеть - и вот уже день, а за ним рано и незаметно – вечер, и множество дел, пока не станешь клевать носом, пока вновь не опустится тьма.
В зрелости мелькают дни недели, и это кажется важным – по понедельникам планёрка, по пятницам - собрания, по средам – выезды.
А когда наступает старость, уже не имеет значение – утро сейчас или вечер, потому что спать или не спать, болеть или не болеть можно в любое время суток. И ты надеваешь пальто и меховую шапку, медленно и осторожно спускаешься с авоськой по лестнице и стоишь, оглушённая и ослеплённая. Потому что пришла весна, а тебе казалось, что соседи только недавно палили бенгальские огни под окнами, а потом выкидывали в снег обтрёпанные ёлки с ниточками мишуры.
Все праздники бессмысленны своей обязаловкой, а дни рождения хуже всех. Они имеют смысл лишь тогда, когда живы те, кто действительно причастен к твоему рождению. Но вот их нет, и нет искренней радости за то, что человек вырос, окреп и поумнел.
Я просыпаюсь и лежу с закрытыми глазами. Слышу, как за дверью тонко скрипят половицы и папа что-то говорит маме, а мама смеётся. Потом тяжёлые торопливые шаги – это Настя ставит самовар. Я открываю глаза и вижу….
Сначала вижу тонкие мережковые узоры на белой подушке, потом жёлтые солнечные пятна на деревянном полу, потом трёхцветную кошку Маху на подоконнике. Маха дремлет, но открывает один глаз, когда я смотрю на неё. Я вижу свой маленький столик, а на нём свои альбомы и книжки. На спинку стула накинута мамина шаль. На комоде выгнула спинку фарфоровая балерина.
- Посмотрю, спит или нет.
- Погоди, разбудишь.
Скрип высокой белой двери.
- Мама! Папа!
- Смотри-ка! Я же говорил, что не спит. А кто у нас сегодня большая девочка? У кого сегодня праздник?
- Милая! Иди ко мне скорей. Сколько тебе годиков? Один, два, три…
- Четыре! Четыре!
Меня поднимают из кровати, из мягкого тепла, теребят и передают из рук в руки. Я тону в родных запахах – табака, цветочных духов и маминых лекарств.
- Давай поищем чулочки. – мама снова передаёт меня папе. – Где же наши чулочки?
На деревянном полу солнечное пятно. Маха прыгает на него и ложится на бок. Я трогаю носом мамин белый воротник – он жёсткий, красивый и душистый. У меня обязательно будет такой же. Из открытой двери струится запах вкусного и печёного.
И я начинаю смеяться и верещать, потому что немыслимый, огромный восторг не умещается во мне и рвётся наружу, как дым из паровозной трубы.
Только тогда, только тогда это было нужно.
А не когда сидишь за столом, и накрошены салаты, и стоит в духовке жирная жареная курица. И приходят люди, и чокаются бокалами, и желают тебе долгих счастливых лет – больше по привычке, чем от души.
Какая разница – семьдесят три человеку или семьдесят четыре, семьдесят девять или восемьдесят?
А юбилеи! Вот уж где ужас на границе абсурда. Я не справляла ни одного своего юбилея, и старалась держаться подальше от чужих.
Обкатанные штампы, бред и ложь.
«Желаем дожить до сотни лет, не зная горя, слёз и бед». Это что, об умственно отсталом человеке, который только и делает, что улыбается дурак-дураком?
«В этот день мы все желаем и здоровья, и любви!» - декламируют хором родственники восьмидесятилетнему старцу. Ага, он сейчас встанет и вприсядку пойдёт.
Но сейчас всё началось заново, пошёл новый отсчёт.
Хочу я этого или нет, а мне придётся нарушать единственный нерушимый закон – закон невозвратимости времени.
Почему я никак не могу вспомнить мамино лицо? Папу помню так, как будто мы расстались вчера, а мама….
Я снова закрыла глаза и попыталась вызвать из закоулков памяти комнату с квадратами света на тёплых досках пола. Нет, не то. Не сейчас.
Я пошла на кухню, достала банку с кофе и поставила турку на огонь.
Мной снова начало овладевать опасное беспричинное беспокойство.
Это периодически накатывающее состояние бесконечно утомляло – оголённые нервы, приступы чувствительности, а потом внезапная раздражительность, переходящая в откровенную злость.
Может, прав мальчик, и у меня действительно переходный возраст.
Так. Всё хорошо. Надо успокоиться.
Я налила кофе в кружку, добавила молока, отломила горбушку от ржаной буханки и забралась с ногами в складное кресло Германа. От кресла шёл тот тонкий тёплый запах, который неизменно оставляют люди на месте, где постоянно спят. Я сидела прямо посреди него.
Я спросила себя – чего я хочу, сейчас, в данную минуту? Если я получу это, то успокоюсь.
Я хочу что-нибудь разбить. Я сжала кулаки и посмотрела на предметы в комнате. Они мирно стояли на своих местах, не подозревая о том, что сейчас решается их судьба. И совсем уж соблазнительно выглядел ноутбук с закатом в пустыне на весь рабочий стол. Ещё и пустыня! Будто издевается.
Я отдышалась. Если я это сделаю… То что? Он убьёт меня, как сказала сумасшедшая? Ха! Ляжет и убьёт!
Что я ещё хочу? Позвонить ему. Прямо сейчас. И сказать, что мне опять плохо. Что он обязан приехать. Что мне надо с кем-то поговорить, пока я снова что-нибудь не натворила. Я хочу слышать человеческий голос. Я хочу слышать его голос.
#9085 в Проза
#3184 в Современная проза
#17404 в Фэнтези
#2680 в Городское фэнтези
Отредактировано: 14.05.2017