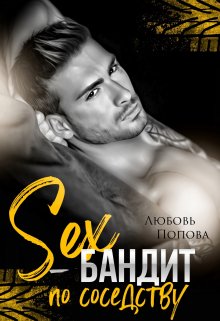Непринципиальные отличия
Непринципиальные отличия
Вот раньше как было? Подслеповато-опечаленная ностальгия, обремененная седою амнезией, тихо припомнит зеленоту невыщипанной травушки, отчаянно пробивающейся к нестерпимо яркому солнцу меж стыков мозайки потрескавшихся асфальтовых плит. И такая она была удивительно зеленая в своей схватке за жизнь, что и коммунальному рабочему выщипывать её было невыносимо больно и омерзительно стыдно. Это пролетарий современный, сетует ностальгия, лишь леностью праздной руководствуется, а гордый рабочий из летописных сводок в своих мотивах опирался исключительно на высокую мораль и чувство прекрасного. Потому и рвал травушку с фатальным раскаяньем, незаметно смахивая серым рукавом подуставшей робы предательски выступившие слезы. Гневался и праведно рычал на безвкусицу и осатанелый начальственный гнет.
Не обойдет ностальгия стороной и мифическое мороженое, бывшее на порядок вкуснее и слаще актуального жиденького пломбира. Теперешний-то что? Не иначе, как пакость и надругательство над рецепторами. Не под силу ему умиротворяющей сладостью компенсировать горечь пребывания в наступившем смутном времени. Даже исхудавший боров на такой пломбир смотрит недоверчиво, а уж на угощающего – и вовсе с укоризной.
Много, о чем еще шепчет ностальгия, обратив слезливый взор к бесконечной небесной глади, а нам тут, понимаешь ли, разбираться в принципиальности отличий. Самое из них очевидное и априорное – транслируемая бытием картинка. Человеку современному бытие является широкоформатно, калейдоскопом прелестей высокого разрешения, а вот люди недалекого прошлого окружающую действительность созерцали сквозь фильтр пленочного фотоаппарата.
В один из таких пленочно-ностальгических вечеров Иван Гаврилов, растворяя дорогу тяжестью уверенной поступи, двигался куда-то вперед, высоко задравши бритый подбородок и совершенно не обращая внимания на намозоленные неразношенными кроссовками стопы. Обманчивая теплота ранней майской ночи неспешно обволакивала город, освещала улицы тревожным светом покосившихся фонарных столбов, редким порывистым ветром шумела меж блеклых панелек заводской окраины. Слегка поёжившись, Иван удовлетворенно хмыкнул. В такую погоду мешковатая отцовская кожаная куртка, сидевшая несколько аляповато, была не неказистым атрибутом мнимого преуспевания, а практично-эстетичной необходимостью. Подогревали колышущуюся неотразимость остатки финансовой грамотности, выраженные в помято-накопленных, слегка оттягивающих задний карман турецких джинсов, купюрах.
Лишь одно бередит взволнованную юношескую душу: засомневался Иван в умении работников парикмахерской «Шанель» ориентироваться и воплощать на головах клиентов загогулины всепроникающего импортного стиля. Как-то не честно восторгалась Зинаида Михайловна проделанными над волосами махинациями, отливал её подпухший глаз цыганской неискренностью. «Ну ты гляди, какой красавец! Ай, модель!» – гипнотично ласкала она Иваново самолюбие сквозь гудение черного, словно пистолет, фена. Вторили ей коллеги праздничным кудахтаньем, салютуя клацаньем разномастных ножниц. Капитулировал под этим натиском Гаврилов, ошарашенный вниманием, усмехнулся заляпанному зеркалу. И только отрезвляющая уличная прохлада вскормила ростки удручающего сомнения. Перебирая в голове телевизорных кумиров, он хоть убей никак не мог понять, на какую-такую модель он теперь похож. «Эко ж какая вышла незадача», – думал Иван, трогая гордо реющие на ветру, словно советский флаг над рейхстагом, удлиненные на затылке волосы. Омут отчаянной неуверенности неумолимо затягивал Ивана всё глубже, вынуждая суматошно хвататься за нелогичные коряги психологических защит.
Первой такой корягой стал замызганный необратимостью времени прейскурант злополучной цирюльни. Аккуратным рукописным почерком, синим по пожелтевшему, убеждал он Гаврилова в том, что тот теперь как-никак, а счастливый обладатель стрижки «Модельная». А раз написано – значит, правда, значит, что-то привлекательное Зинаиде Михайловне настричь удалось. Канонизация различного рода государственных бюрократий, заверенных высохшими печатями, есть часть культурного кода, несмываемая ржавчина на цепи генетического наследия. Сражаться с государством внутри себя в данной ситуации было непродуктивно, а для сгорбившейся самоуверенности Ивана – крайне опасно.
Второй корягой было биологическое видовое превосходство. Шел Ваня, словно волк по степи, смиряя взглядом случайных прохожих, семенивших по своим мещанским делам. И не смел никто улыбнуться и посягнуть на занимаемое им место, обходят все как бы уважительно, ссутулившись под напором источаемой Иваном природной силы. А значит, не упал на грязный пол вместе с былой шевелюрой гавриловский авторитет, не сменилась иерархия, Акела всё-таки не промахнулся.
Безжалостно ломает Ваня изначально верное направление мысли в угоду душевного равновесия. Прохожие действительно сутулились, но причиной этому был не эфемерный юношеский авторитет, а напряженное сравнение рыночных и магазинных цен, отдавленная в часпиковом троллейбусе нога и предстоящая долгая работа по зачёркиванию календарных дней до ближайшей получки. Думать так Ивану было не выгодно, поскольку это значило заменить природно-звериное чувствование на рационально-логическое мышление. В таком случае выбираться пришлось бы как из омута отчаянной неуверенности, так и водоворота тоски по социальному благополучию. А на это он сегодня пойти ну никак не мог.
Третей корягой послужил намертво укоренившийся моральный оплот, сформированный метафизическим внутренним пацаном. Сущность эта – бестелесный дух-защитник, нерушимый этический маяк, спасительным лучом освещающий праведный путь сквозь пучину нравственного падения. И луч этот – жизнь в гармонии с законами пацанского развития, попросту «ЗПР».
Иван прекрасно знал, что в заигрываниях с модой нужно четко соблюдать границы. Она змеем-искусителем будет шептать: «Ну купи ты эту розовую гучи футболку, сейчас такое и парни носят. Братва не засмеет, а девочки оценят…» И братва, конечно, не засмеет, но напряженно перешептываться будет и возьмет на карандаш – это как пить дать. Насупится метафизический внутренний пацан, расстроится, но промолчит. Для слабых духом подобное молчаливое согласие – это не повод усомниться в своих действиях, а повод их продолжать, изредка побаиваясь наказания. За розовой гуччи футболкой гардероб пополнится узкими джинсами, а под них, конечно же, пиджачок нужен приталенный – и пиши пропало, Рубикон перейден.
Что и говорить, если долго всматриваться в моду, то мода начинает всматриваться в тебя, медленно заполняя душу гламурно-стразовой скверной, затапливая метафизического внутреннего пацана. Он будет отчаянно сопротивляться, до последнего взывать к пацану внешнему, ведь один из основных постулатов «ЗПР» – мужественное противление ереси насилием. Тут бы остановиться и призадуматься, а затем порвать эту футболку на себе и, желательно, на другом… Но мода неумолима и бескомпромиссна. И если не удержаться и поддаться ереси, отринуть «ЗПР», не подать руки метафизическому внутреннему пацану, то тот, осознавая столь кощунственное предательство, выжигает на хозяине черную метку и, захлебываясь, яростно кричит, возвеличивая собственную гибель.
В тот день не ударит мяч по непокрашенным стадионным перекладинам, разрыдаются струны на расстроенных гитарах районных бардов. Переменится настрой на загаражных пиршествах, разольётся горькая по пластиковым кубкам, да выпьют её безмолвно, стоя и не чокаясь. Несведущие дворовые дамы вдруг увидят, как наполняются печалью суровые глаза их кавалеров, как кротко задрожат непоколебимые губы. Утихнут нескончаемые пустырные баталии, поднимутся непримиримые воины, отряхнут друг друга, тихо заплачут и крепко обнимутся. Встанут общим кругом, обратятся к небу и пронзительно завоют поминальную песнь, провожая метафизического внутреннего пацана в последний путь.
А дальше всё, поминай как звали. Без устали трудится черная метка, подвергая носителя районной анафеме. Никто отныне ему слова тёплого не скажет, за руку здоровкаться не подойдет, в одно поле срать не сядет, боже упаси. Одиноко трапезничать ему несолёными щами за отдаленным столом, озираться по дороге на бальные танцы, получать затрещины по мелированному затылку. Словно по ГОСТовским нормам, в кожаном портфеле будет лежать грязная половая тряпка, приталенный пиджачок станет вечно заплеванным, еще и прозвище такое придумают обидное, что на всю жизнь привяжется. Хотел ли Иван Гаврилов такой участи? Совершенно нет. Дух метафизического внутреннего пацана всё еще был крепок и силен, а, стало быть, нечего и ориентироваться на телевизорных гламурных модников – от лукавого всё это, не по понятиям.
Так и брел Ваня дорогой приключений, растаптывая остатки крамольных мыслей, как мировой кулак Летовскую жену. Змеились знакомые тропы под ногами, безошибочно вёл внутренний компас через мглу, ориентируясь на чарующий лунный свет. Здесь направо, сократить через гаражи, попутно перепрыгивая невысохшие лужицы. Сигануть с дороги под фонарь, разминуться со стаей безмятежно бредущих собак, протиснуться сквозь дыру в сетчатом школьном заборе, поддать от взбалмошного сторожа, перебежать дорогу по стертой зебре. Идти вдоль зарисованной стены, у надписи «Кровью и потом прославив страну, без наград и без чести мы сгинем в пи*ду» завернуть налево. Чем ближе цель, тем чаще бьётся предвкушающее сердце.
Цветами радуги беснуется дискотека сквозь зашторенные окна. Долетают до уха знакомые аранжировки, перемешиваясь со звонким женским смехом. Не покривив лица, продвигается Иван вперед сквозь терпкий сигаретный туман и горячие дискуссии подвыпивших мужей, пожимая знакомые и не очень ладони, ловко уворачиваясь от неожиданно возникающих торговцев уже несвежими цветами. Втиснувшись в нестройную очередь, Гаврилов оправил куртку, отряхнул штаны и пригладил слегка взъерошенные волосы. Перед входом его ждет еще одно испытание. Крепко стоит на ногах Михайловна, бессменный, как Хеймдалль, страж у ворот ночной обители. Не уйдет от её зорких глаз превышенное в крови промилле, неопрятный внешний вид и общая культурная несостоятельность. Здесь она – вершитель судеб с хаотично меняющимся расположением духа. Согласуешься с неведомыми критериями – попадешь внутрь, а нет – попадешь в коррупционную немилость. И стой потом полночи с букетом только что купленных цветов да шоколадкой, и приговаривай: «Ну Михайловна, пусти, а?» Потупив уважительный взгляд, ожидает Иван приговора собственной участи. Но и тут фортуна не остается безучастной. Получив заветный квиток и внезапный, как порванный презерватив, комплимент собственной прическе, он, по-дурацки улыбаясь, попадает внутрь.
Ах, великолепие агонизирующей молодости! Лихорадит взмокшую толпу в такт ревущей танцевальной канонаде. Лихо хороводит она, вознося руки к мерно крутящемуся на потолке дискошарному идолу. Полнится тело волшебной энергией, трещат непривыкшие перепонки, вереница хаотичных запахов щекочет ноздри. Тут тебе и ароматы химической завивки вперемешку с лаком для волос, и хмельное амбре, бесполезно перебиваемое мятной заграничной жвачкой. Пахнет потрескавшимися досками, скрытыми горячительными напитками, разгулявшимися гормонами, надеждами на близость и одеколоном по потному телу. Где-то на бритой голове, невпопад звучащим нотам, вертят новомодный брейк, в соседнем углу слегка пошатывающаяся ватага двигается так, словно разминается перед физкультурой, разгораются баталии за неприступные девичьи сердца, клянутся в вечной преданности помятые незнакомцы. В любую другую ночь Гаврилов бы и бровью не повел, сразу бы растворился в потоке общего безумия, но не сейчас. Тревожно вглядываясь в прорехи меж танцующих тел, он пытался что-то обнаружить, пока, наконец, не ахнул. Вот там, чуть-чуть сбоку от центра, танцует она, эта милая девчонка из бухгалтерии, по имени Алена.
Поигрывают светодиоды на нежном стане, завораживающе бликуют на длинных волосах, ниспадающих на хрупкие плечи. В общей суматохе окружающего шабаша выделялась она поражающей легкостью движений, подпевая льющейся песне волнующими губами, прикрывая глаза в приятной истоме. Ивану явилась ожившая богиня, своим танцем озарившая этот мир, стремительно катящийся к чертовой матери. Яростно стучит неспокойное сердце, готовое на подвиг. Трепещет душа под напором любовных чувств. Только ему, средь всей этой несуразной толпы, достанется возможность утонуть в золотистой нежности её выразительных карих очей. Но, как издревле повелось, там, где есть красавица, пренепременно должен быть и дракон.
Нет, нет, Люда Скоморохина вовсе не дышала огнем, не имела чешуйчатые крылья, не была влюблена в осла. По крайней мере сейчас. Любовь и ласка её были не менее достойны воспевания. Однако, путь к Алёнкиному сердцу лежал через её снисходительное одобрение. Доподлинно неизвестно, из каких соображений совести Людка на свою и без того нагруженную спину взвалила охрану Аленкиной благопристойности, но этому делу она отдавала всю себя без остатка. С ехидной улыбкой оскалившегося цербера, денно и нощно стерегла она подступы в желанные чертоги Аленкиной души. Немало славных молодцев потупило копья об безжалостную Людкину непоколебимость. Действовала она не прямо, а как бы исподтишка, мелко пакостничая: то шуточку скабрезную новому ухажеру отвесит, что тот вынужден покрасневшим ретироваться, под обескураживающий Алёнкин смех, то в самый неподходящий момент появится из ниоткуда, невежливо прервет медленный танец и утащит подругу судачить в дамскую комнату. Как та учительница, которой кнопки на стул подкладывают, выделяла она гелиевой красной ручкой грамматические ошибки в любовных письмах, серым кардиналом сетовала на непростительную дешевизну и безобразную несладкость гостинцев от очередных ухажеров. Позовут Аленку в кино – так оно неинтересное, и тучи грозовые сгущаются, а подарят цветы – так те непременно с ближайшего погоста.
Иван, поскрипывая извилинами, напряженно соображал. Дракона нахрапом не возьмешь, тут смекалка и удача надобны, а еще – помощь доброго товарища. В ответ на эти мысли из толпы вынырнул Слава Весельчагин, хозяйской походкой направился к Ивану, приобнял того за плечо и увел на свежий воздух.
– Что же ты, друг сердечный, нос повесил? Аль случилось у тебя чего? – поинтересовался он.
Присели молодцы на корточки, ведь в ногах, известно, правды нет. Выдохнул Иван и с преувеличенной тоскливой выразительностью поведал другу свою душераздирающую историю.
– Так мол и так, Слава, купидон, чепуха пузатая, сердце прострелил, жития мне без Аленки нет…
Призадумался Весельчагин, как другу подсобить. Не менее важным постулатом «ЗПР» является помощь товарищу в сердечных делах, и гневить своего метафизического внутреннего пацана Слава не собирался.
– Тут, Иван, без зелий магических мы не справимся. Остаканиться надобно…
Тают купюры в диковинных склянках благородных полусладких зелий. Постепенно укрепляется решительность намерений, появляется в глазах озорной задор. И всё ж таки Ивану было неспокойно. Ведь там, на танцах, Людка Скоморохина неумолимо собирала свою жатву, убегали от Аленки кавалеры, как поруганные дети. Тревожился Гаврилов, зная: стоит Людке утолить этот бесчеловечный голод, как она, довольно урча, унесет подругу в своё тайное логово, полное разбитых мужских сердец и безрадостного одинокого быта неспасенной принцессы. И ночь предстоит провести не в объятиях возлюбленной, а в попытках заштопать глубокие раны на теле поломанной самооценки. Но тут Слава Весельчагин неожиданно поднялся, расправив могучие плечи. Зелье, наконец, работало, подталкивая к великим свершениям. Без незначительных побочных эффектов, конечно же, не обошлось, но осоловевший взгляд, вредноватый язык и волнообразная походка скорее добавляли изюминку, чем как-то существенно препятствовали будущему успеху. Перекрестившись и мысленно шепнув судьбе «мерси боку», друзья отправились внутрь.
Еще подрисовывая гениталии австралопитекам в расклеившемся учебнике биологии, Иван отлично усвоил следующую мысль: самым распространенным брачным ритуалом у животных является танец. Происходившее вокруг, вне всякого сомнения, походило на водопой в африканской степи, а, значит, настало время показать гиенам, кто здесь царь зверей. Закручивает ноги в залихватский пляс молодецкая удаль, чеканит по дереву мужицкий пасодобль. «Порхай, как бабочка. Жаль, как пчела» - приговаривает Иван, уверенно подковыливая к манящим Аленким бедрам. Пронзительный взгляд, неловкий кивок, несколько попыток перекричать музыку, произнесенное имя, и, вроде как, знакомство можно считать состоявшимся. Но опрометчиво считать, что дело в шляпе. Знал Гаврилов, что мало занять королевский престол, на нем еще нужно закрепиться. И сделать это было не просто, ведь претендентов вокруг – тьма необозримая, а еще и дракон всё время поблизости, пусть и слегка расслабившийся. Вспоминая остальные главы из школьного курса, Иван выпятил грудь колесом и оттопырил локти, стараясь как можно сильнее доминировать в пространстве. Мероприятие сие непростое, ведь тут и даме нужно свой полный нежной заинтересованности взгляд продемонстрировать, а, опосля, моментально переключиться, и уже взглядом кипящей ярости отогнать понабежавших кавалеров. Периодически поглядывая, как идут дела на параллельном фронте, Иван только диву давался, преклоняясь перед Славиным мастерством. Как только не крутил он Скоморохину, как только не выплясывал, не давая той ни малейшей возможности отвлечься. План работал надежно и без осечек, как автомат Калашникова.
Дальнейшее складывалось само по себе. Раскалбаситься под «бухгалтер, милый мой бухгалтер», бодро водить двумя пальцами у глаз под «modern tolking», проявить недюжинные диско таланты под «это Сан Франциско», Траволтой отплясать под Пресли, положить ладони на тонкую талию и неспешно перешагивать под «Scorpions». Отпивал Иван из неожиданно появляющихся тетрапаков, шутил шутки в музыкальных паузах, не упускал возможности дотронуться до Алёнки как бы невзначай. Знакомство неотвратимо перетекало к более интимному, что-то светлое рождалось в этих редких словах, взаимном смехе и стирающихся границах установленных приличий. Как вдруг Гаврилов опомнился. Обернувшись, он заметил, что Славины силы постепенно того покидали. То ли кончилось действие зелья, то ли побочные эффекты взяли вверх. Дракон стремительно терял интерес к Весельчагину. Людка явно чувствовала что-то неладное, да всё чаще норовила вернуться. Сцена приобретала очертания драматического блокбастера: поймав на себе взгляд перепуганного Гаврилова, Весельчагин кивнул на вход, как бы говоря: «беги, я её задержу», после чего что есть мочи прижал к себе Скоморохину. С ловкостью японского ниндзи и несгибаемым упорством батька, вдруг осознавшего тщетность треклятой жизни и решившего без вести пропасть в поисках сигарет, Иван, схватив Алёнку за руку, ринулся к выходу. Прорыв, дверь, Михайловна, свобода. Дракон наконец повержен, а принцесса эвакуирована. Славе – честь, хвала и воинское приветствие.
Что характеризует романтику ночных весенних прогулок? Перво-наперво – надетая на пассию куртка. Это с одной стороны показывает такие качества, как заботливость и галантность, а с другой – демонстрация богатырской мощи и отменного здоровья. Не забывал Иван про биологию, теша себя надеждами, что сопротивляемость холоду – это еще один плюсик в его копилку. Смотри, мол, Алёнка, какой я, а? Будешь греться у костра и нянчить наших розовощеких карапузов, пока суженый сражается с мамонтом в промозглой ночи. Дальше идут светские повадки и общая эрудированность. Подбирал Ваня темп, под стать неудобствам Аленкиных каблуков, стойко поддерживал беседу, делал вид, что искренне заинтересован в тонкостях бухгалтерского искусства, аккуратно переносил милую даму через овраги. А вот дальше наступал этап, на котором очень легко опростоволоситься. Дело было в том, что случившуюся романтику периодически прерывала человеческая физиология, подогреваемая выпитой намедни жидкостью. В своём нестерпимом желании орошать близлежащие кусты необходимо помнить о культурных приличиях. Дистанция подбирается такой, дабы не смущать даму издаваемыми звуками, ну и, конечно же, чтобы дама, отлучившись, могла спокойно делать свои дела и не смущаться возможностью быть услышанной. Всё это Ивану удавалось без особенных усилий. Целуясь по-французски у пожухлых приподъездных палисадников, Гаврилов чувствовал, что наконец ухватил Бога за бороду, но ухватиться мучительно хотелось за что-нибудь другое…
Три лестничных пролета, два поворота ключа, включенный в коридоре свет и голодное мяуканье. Проводив Алёну на кухню, Иван сперва уважительно прибрал за недоверчивым котом, после чего сбегал в сервант за редко используемыми бокалами. Сообразив нехитрый стол из сырокопченой колбасы, огурцов, хлеба и заблаговременно купленного шардоне, наконец уселся. Настало время для последней игры. Всем своим видом Гаврилов показывал, что человек он с исключительно серьезными намерениями. По-французски мы, конечно, поцелуемся, но дальше – ни-ни, ведь вашу непоруганную честь я особенно уважаю. Мы тут чисто так по-соседски валетом переспим под разными одеялами, а там дальше будем думать, когда нам вокруг алтаря прогуливаться. Абы зачем я на перинах не шушукаюсь, мне подавай так, чтобы раз и на всю жизнь.
Грань была тонка, как весенний лёд. Оба понимали, к чему всё ведет, но вот показывать это было неприлично и пошло. Мысленно сетуя на условности общественного воспитания, Иван всё чаще подливал быстро заканчивающееся вино. Оба они укреплялись в чувствах, что встреча эта была не менее, чем судьбоносная. Удивительным образом сочетались мысли, поражала общность взглядов, устремлений, желаний и вкусов. Они, то и дело перебивая, заканчивали фразы друг за дружку. Всё чаще Иван ловил себя на том щемящем чувстве зарождающейся любви, когда кажется, что всё наконец получилось правильно и так, как изначально было задумано происками их пересекшихся судеб. Нежно приобняв Алену и еще раз мысленно благодаря Славу Весельчагина, Иван услышал, наконец, заветное: «Ну что? Пойдем спать?»
Лежа на выстиранной постели, Иван решился идти ва-банк. Целуя Алёну как будто бы на добрую ночь, он вдруг тихо и, как ему казалось, томно прошептал на ушко: «Сударыня, извольтес-с примоститься мне на физиономию?» Превышенный алкогольной лимит и сексуальное образование, в виде стыдливо запрятанных на дальние полки кассет, могло сыграть злую шутку, но Алёнка оказалась неробкого десятка. Не разглядел в кромешной тьме Гаврилов озорного огонька в её глазах, но вдруг с уверенностью почувствовал, что эта ночь озариться половым разнообразием. Уже после, медленно проваливаясь в объятия морфея и обнимая улыбающуюся Аленку, Иван, разглядывая скорее по привычке причудливые завихрения узоров на настенном ковре, размышлял о том, как удивительно ошибся тот грек, посчитавший, что каждая тварь печальна после соития. «Не печален я, товарищ грек, а безропотно влюблен. Стало быть, и не тварь я вовсе», – удовлетворенно заключил Гаврилов, крепче обнимая будущую жену.
Всё это, собственно, к чему? Ведь принципиально-то изменилось немногое... Ну да, поменяли Шанели на Барбершопы, нафиксатурили волосины, аккуратно подстригли бородки и ринулись покорять не канувшие в лету дискотеки, а самые, что ни на есть ночные клубы. Всё так же пишем любовные письма, только теперь уже не почтой, а в захваченные мемами, музыкой и чужими писюнами директы девичьих инстаграмов. Кожаные куртки на месте. Вообще в плане одежды сансарово колесо вертится занимательно. Одеться можно, как в те лихие времена, и слова тебе никто поганого не скажет, посчитают за уникальный стиль. Метафизический внутренний пацан тоже никуда не делся, а всех переиграл и трансформировался согласно духу времени. Ничего принципиально нового. Что тогда, что и сейчас, светлое чувство пришедшей подлинной влюбленности пахнет чем-то недопитым, пахнет перемешанными телесными жидкостями, нежными объятиями и надеждами на светлое будущее.
Можно часто слышать, что изменились наши милые дамы. Мол, попали они в какую-то свою причудливую армию, где их безбожно ставили в ассаны индийские йоги, всячески восточно, оккультно и психологически просвещали, замучили похудательными марафонами, бизнес-тренингами, вебинарами успешности и, преисполнившихся, вернули обратно. И дамы, разрывая на себе тельняшки, неожиданно заявили: «Ну что, дружочек, допрыгался? Отныне нас так просто на мякине не проведешь. Давай, штурмуй теперь бастионы моей осознанности, блуждай безниточным Тесеем по темным лабиринтам моих противоречивых требований, незакрытых гештальтов, пройденных курсов, женской энергии и пресловутой мудрости. А ты что, думал, что будет просто? Ох, как бы не так. Мы тут еще посчитали, что газетно-журнальные гороскопы – это моветон. Нынче мы под это дело канву научную разработали. И тебе, как тому языческому колдуну, ориентируйся теперь в звездном небе, стараясь согласовать движения небесных тел со временем рождения, тайной гадальных карт и колебаниями менструального цикла…» Но это, братцы, просто лирика. Недопонимания по поводу загадочности и таинственности женской души красной нитью тянутся через всю человеческую историю. Это что-то вроде условной нормы, общемирового гомеостаза. Нужно вот иногда припудрить внутренний мир, отзеркалить путь к вожделенному сердцу, подправить форму, но сберечь суть. Но спорить не будем, сил они поднабрались. Нынче скорее пассия прошепчет тебе в ночной тиши: «Сударь, если восседать мне на вашей физиономии будет несподручно, то и утрешней глазуньи вам не видать, как собственных ушей. И сахару в чай от меня не дождетесь, можете даже не просить». Но такие отличия, даже если посчитать их принципиальными, безусловно идут в плюс, ей богу.