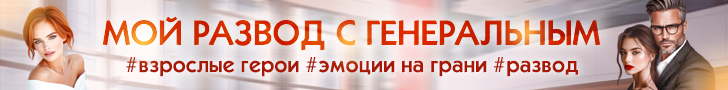Нездешняя повесть
Пролог
Буду предельно честен и открыт, по одной только прискорбнейшей причине - ничего более мне не осталось делать и все маски, что несравненно могли бы скрыть с лица моего ухабы, давно неизбежно покоятся в ненавистной мне Форджете. Прошло не так много времени с тех самых приснопамятных дней, и как бы порою не изнывала память моя, урывками все же являются ко мне тот самый запах трав, исполненный душистого помойного аромата и сладострастный хруст сгнивших досок, на которых мы коротали, ночь за ночью, свою безусловно беспечную жизнь
Клянусь, всем чего у меня теперича нет, будь цепки на бóльшую власть мои лапы, я непременно бы сберег все это- все, что пропадает бесследно в проклятой Форджете, среди убогости, ничего не смыслящей в истинном превосходстве! Боже мой! Мне приходится ахиллесовой пятой собственная память, которая, как я уже говорил, изнывает, но делает это искусно: не взирая на крики, беспощадно так, полоснет по сердцу ножом - и мучайся! А коварство ее в том, что вынуждает помнить, видеть и порою даже осязать последние минуты и крах моего эдема. Поэтому, раз за разом, желаю я быть в воспоминаниях чуть дальше от проклятого дня, погубившего меня. Будь то месяц, два, иль неделя в зеркальном смысле - вот, то самое время, где желаю я духом своим прибывать. Поэтому, судите сами, на какие муки вы обрекаете меня, пожилого таракана, заставляя ковырять игольным острием свой заморенный разум, что уже одной ногой в могиле, дабы пересказать вам все горести и радости минувших дней.
Да, не стоит округлять свои глаза, я довольно хорошо образован, недурно начитан, как и полагается любому, на чью долю выпали бразды правления. Тем более, за свою жизнь, коею я обязан гордиться, я был в крайне почетном положении - меня знали и чтили даже те, с кем мне не доводилось говорить с глаза на глаз. Я всегда был своего рода эталоном, а действия мои - мерой для других, посредственных обывателей. Не отводите глаз в сторону, не забывайтесь, с кем вам выпала честь иметь диалог! Коль вы изъявили желание говорить именно со мной, так значит не за просто так, стало быть я у вас, непременно, на слуху. Что есть теперь и что будет дальше? Нет-нет, не будем об этом. Лучше начну я свой рассказ о том, что было, ведь более мне ничего не осталось. Сначала, я предпочел бы обрисовать вам, как можно подробнее, насколько мне благоволит словарный запас и коварство памяти, какова была нега тех самых мгновений. Позже, я продолжу свой рассказ, пожалуй, за несколько дней… ну, вы сами понимаете, до чего.
Итак, с тех самых пор, как некий Фадит, имя и значение которого прискорбно канули в лету времени, по причине неослабевающей хвори и как следствие - неизбежной кончины, любезно передал в мои еще неокрепшие и не мозолистые руки одно лишь судьбоносное слово - "Правь" , я, не поморщась ни секунды принял в наследство чудное место, которое мы все, избивая кулаками себя в грудь, называли Шалаш. О, сколько гордости, сколько восхищения может вызвать одно название, ласкающее слух!
Однако, вид его был еще куда прелестнее: модная на то время холщовая ткань, искусно сшитая из выброшенных мешков трепетного подбора, укрывала наше пристанище, обнимая его каждой своей петелькой. В сердце сего шатра располагалась самая что ни на есть "Королевская нора" с дощатым покрытием, в которой мог находится только высокопоставленный таракан с самыми длинными усами, то бишь, это укромное место по праву принадлежало мне. После бедняги Фадита, что собственноручно мастерил его, мне достались лучшие доски из самого дорогого дерева и чудный фонарь, что висел прямо над входом в ложу. Слева от проема стояла крепкая бочка, взобравшись на которую можно было достать кухонный поддон, где творили лучшие тараканихи Шалаша. Справа - многочисленные в своих формах и великолепиях коробки для хранения всяческих находок, поиск которых было задачей посла, что разъезжал на самокате последнего технологического образца. Никогда, никогда мне не забыть это чудное место, где по пробуждении находишь щедрые дары почитателей наших. Это могли быть газеты, объедки, самые преданные приносили одежду с всегда интереснейшей рваниной и все эти подарки, с уважением запечатанные в черные пакеты, радовали нас каждую ночь.
Я, оказавшись на месте уже усопшего в почтенной старости Фадита, принялся искать. Что искать, говорите? Ах да, вы, наверное, не знаете! Когда наступает прискорбный черед главного таракана оставить свой пост, его жители в лице верных подданных обязаны свернуть в котомку свои пожитки и покинуть Шалаш вместе с ним. Поэтому, получив его вовсе опустевшим, передо мной встала задача, не терпящая ожидания, а именно, найти своих. В самом деле, я предчувствовал скорую кончину Фадита, ведь она поселилась в его лице, и разглядеть ее можно было невооруженным взглядом, причем настолько, что его жители еще за неделю стали подготавливаться к неминуемому переезду. Но пока этого не произошло, я стал присматривать за самыми богатыми на интереснейших личностей местами.
Паулис приглянулся мне не сразу, ведь насколько он был хорош собой, настолько же был дерзок и не усидчив. Но видя эту фигуру снова и снова, причем повсюду - от обычных улиц до дорогих заведений, я все же решился разговорить этого паренька, ехидная морда которого всюду мне сверкала своими белёсыми зубами. На вопрос, кто он и чем занимается, тот звонко залившись смехом, оттягивая подтяжки брюк произнес: ”Я? Когда как! Иногда я так, самый последний "никто", а иногда, если продираю глаза в хорошем настроении, могу тут же стать кем угодно. Тут как душа ляжет" . Он говорил это с явной насмешкой, и непонятно, над кем тянулась эта улыбка - либо над своим шатким положением, либо над другими тараканами, что велись на его мастерские уловки и пускали в самые элитные комнаты, даже не обнаружив его в списке гостей. И раз Паулис был способен филигранно сбрасывать кожу, облачаясь в другую, то примерить себе образ, желаемый мне, не составило бы большого труда. Расспрашивать хитреца о его происхождении и нынешнем месте жития не представляло никакого смысла - он был точно айсберг, не имеющий ничего, окромя верхушки. Жил он где попало, а в раннем детстве был найден не равнодушными в какой-нибудь яме. Окрестил Паулисом он себя сам, быть может, неподалеку услышав это имя от некого иностранца, он частенько использовал его как псевдоним для совершения очередной проделки, а позже больно с ним породнился. Не исключено, что он имел множество других имен, и при разговоре с ним я в этом окончательно убедился. Однажды к нам подбежала взбалмошная особа, что в ярости налившись, точно помидор, размахивала руками, истерично крича: "Генрих, я отправляла тебе письма! Ты… Ты… Как ты смеешь меня игнорировать!" . На что Паулис, тут же надев маску глубокого интеллигента в рваных ботинках, ответил с легкой улыбкой и явным безразличием в голосе: "Извините, мадам, вы, похоже, ошиблись." Тут же засучив рукав, он глянул на руку, и с поддельной досадой произнес: "Ох, я бы рад с вами поболтать еще, но мне и моему другу Виктóру пора уходить. Прекрасный день для деловой встречи, не так ли?" . Не трудно догадаться, что не было ни деловой встречи, ни часов на его запястье, да и Виктóром меня никогда не звали. Мы стремительно удалились, пока в наши спины летели оскорбления и требования о дорогом колье, что Паулис некогда пообещал своей одноночной пассии. Собственно, наше знакомство произвело приятное впечатление на нас обоих, но пока я не спешил предлагать Паулису работать на меня, зная, что стоит все же еще поднажать на его доверие, и с этим не стоило спешить, ведь таким тараканам, как он, не так то просто будет проститься со свободой. По крайней мере, я знал, что Паулис никуда не денется с моего поля зрения, ведь, повторюсь, такие как он способны перетерпеть ядерный взрыв.
Определенно, блестящий кандидат на должность посланника был в моих проворных лапах. Встречи с Паулисом продолжались чуть ли не ежедневно, за исключением тех моментов, когда ему было необходимо залечь на дно. Но быть одержимым одним лишь посланником было бы неправильно с моей стороны. Вопрос о пропитании стоял так же остро, но из раза в раз мне не везло: толпы так же взбалмошных, как подружка Паулиса, девиц, сбежались бы к Шалашу при одном только упоминании моей нужды в благородной девице. А таких, к сожалению, не находилось. Но, как известно, в минуты глубокого отчаяния начинает везти, и за пару дней до кончины Фадита, проходя мимо убогих прилавков, мне встретилась она: высокая, утонченная особа, холодно глядящая куда-то вдаль, сквозь покупателей и дома, что легко и непринужденно творила своими руками деликатесы, отличные по виду и запаху от изделий соседних прилавков. Это создание сразу вызвало в моей преклонной, уже на тот момент, душе, чувство разливающегося тепла, скользящего от сердца до самого желудка. Как сейчас помню: я покорно прождал конца ее смены, и когда она с легкой боязливостью позволила прильнуть губами к ее тонкой руке, я понял, что вот она - та самая женщина, способная держать своими умелыми пальчиками очаг Шалаша. Имя ее было Севистина, и как было написано на ее кругленьком личике, та мечтала выбраться из этого помойного ведра, и кто, как не я, смог бы ей в этом помочь? Меня не покидало чувство моментальной покорности, что вспыхнуло в ней по отношению ко мне, и я точно знал, что эта тараканиха будет изо дня в день надеяться на мой повторный, судьбоносный визит. Однако, чтобы не на мозолить ее чудный глаз, я решил поступить, быть может, не совсем благородно, оставив ей небольшую записку в форточке, которая гласила коротко и лирично: "Я еще вернусь" .