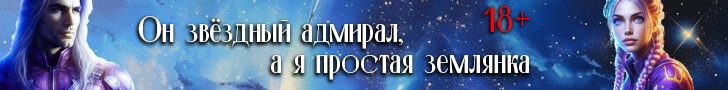Обещание
Обещание
I
Нет ничего странного в том, что в тот самый кабинет сольфеджио я попал только на седьмом году обучения. Я вообще не хотел учиться в музыкальной школе, потому и шататься по ней не любил, а сольфеджио у нас до седьмого класса проходило в кабинете на втором этаже. Там еще был на редкость грязный мужской туалет – гаже, чем в обычной школе, – где старшеклассники караулили нас и отбирали мелочь… Оглядываясь назад, я понимаю, что даже прыщавые рожи этих бестолочей кажутся мне сейчас приятным воспоминанием на фоне того, что я пережил и что хочу, возможно во вред себе, оживить в памяти на этих страницах.
В седьмом классе уволилась наша учительница по сольфеджио, Алина Ивановна. Помню, у нее был такой тонкий и добрый голос, а ещё привычка угощать нас по праздникам конфетами, за что все мы ее очень любили. Вместо нее сольфеджио стала преподавать Изольда Степановна, и совсем скоро все мои одноклассники – да и я тоже – люто этот предмет возненавидели.
Изольда Степановна относилась к очень особенному типу учителей, который можно наблюдать почти в каждой школе. Хотя им давно пора на пенсию, по неизвестным причинам руководство продолжает держать у себя эти неуравновешенные, некомпетентные и уже слабо соображающие экспонаты. Изольда Степановна была как раз из таких: любила говорить, что ошибаться не страшно – и с упоением позорила тех, кто неверно отвечал; обещала провести интересное мероприятие – а на следующем уроке даже не вспоминала об этом; с пеной у рта срывалась на того, кто нарушал установленные ей идиотские правила, к примеру вместо «я» отвечал на перекличке «здесь»; и донимала учеников ещё массой других странностей.
Кабинет Изольды Степановны, несмотря на ее истеричный характер, был обставлен преступно уныло. Кроме вполне ожидаемых портретов Моцарта, Бетховена и Баха, компактного пианино из черного дерева и лакированного учительского стола, были в нем два шкафа, содержимое которых оставалось тайной, полки с нотными тетрадями, горшок с посеревшей аглаонемой на подоконнике и покрытый пылью сервант в углу. Последний был для неё чем-то вроде уголка гордости: за его витринами Изольда Степановна хранила свою пионерскую медаль, диплом, несколько почетных грамот и – внезапно – фотографию воевавшего отца. Я до сих пор помню его строгие глаза, смотрящие с серой глянцевой поверхности, – помню лучше, чем лица некоторых одноклассников.
А ещё было то зеркало.
Я мог бы сказать, что сердце падало всякий раз, когда ты оказывался возле него, что рядом с ним нельзя было отделаться от чувства невидимой слежки и других тревожных ощущений, – но ничего этого не было. Лишь при детальном рассмотрении поднаторелый взгляд мог определить, что оно значительно старше остальной кабинетной мебели и наверняка было здесь еще до того, как класс отошел Изольде Степановне. Старуха вообще всему помещению старалась придать вид безвкусной старины, так что зеркало – с его кружевной оправой из меди и овальным стеклом – долгое время казалось мне лишь очередным инструментом нагнетания архаичной тоски.
Так было до одной пятницы. В тот день я повздорил со своим одноклассником Борей: из-за чего – уже и не вспомню, но кончилось тем, что на перемене мы с ним сцепились, чем навлекли на себя гнев Изольды Степановны. Хорошенько на нас наорав, старуха назначила меня и Борю дежурными: после сольфеджио, когда все разойдутся по домам, мы должны были задержаться в кабинете и прибрать его. Хотя необходимость подчищать за несколькими классами приводила нас в бешенство, спорить мы не решились и стоически приняли наказание.
И вот мы с Борей в пустом классе, елозим по полу швабрами, приводим в порядок ряды парт, превращённые в хаос. Все еще дуясь, стараемся друг на друга не смотреть; каждый занят своим делом. В какой-то момент я сунул швабру в ведро с водой, стоя боком к зеркалу. Оно висело возле двери, между ним и мной был ряд парт, и я видел его лишь краем глаза, пока всё мое внимание занимал пятнистый линолеум, который так любят стелить в учебных заведениях, чтоб оттирать потом от вездесущих черных полос.
Тогда-то я и уцепил боковым зрением её.
Если я правильно распознал суть увиденного, из-за угла отражения, по ту сторону стекла, вдруг выглянула чья-то головка. Окинув комнату беглым взглядом, уже через секунду она исчезла вновь, но этой секунды хватило, чтобы я тоже ее заметил – и обомлел от испуга.
Меня всего затрясло, я подскочил, отбросил от себя швабру и больно ударился спиной о край парты. Боря смотрел на меня как на умалишённого, его я тоже не на шутку перепугал.
– Ты что, дурак? – спросил он, сжимая в руках швабру, будто готовился защититься с ее помощью от моего внезапного помешательства.
В ответ я лишь открыл рот и тупо указал пальцем на зеркало. В нем отражался залитый вечерним светом кабинет и наши ошарашенные лица. Больше ничего.
Конечно, я списал всё на фантазию. В конце концов, игра света и тени часто подшучивает над нашим боковым зрением, и нередко беспокойные образы видятся там, где их нет, либо подменяют собой вполне обычные, лишённые мистического окраса предметы. И всё же зеркало я после того случая стал обходить стороной; не давал больше поводов Изольде Степановне оставлять меня на дежурство, старался не оказываться в классе один, а находясь в нем, избегал даже смотреть в отражение.
Однажды, во время урока игры на фортепиано, я спросил у Михаила Павловича, своего учителя:
– А вы не знаете, давно в классе сольфеджио висит это зеркало?
Чтобы понять, почему этот вопрос я задал именно ему, нужно узнать немного о самом Михаиле Павловиче.
Отредактировано: 31.08.2024