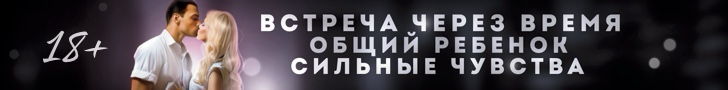Облачение
Глава 9
Шейна уверена: ей должно быть холодно, ей обязательно должно быть сейчас холодно — в конце концов уже стемнело, а она провела весь день на улице, разве ей может быть как-то иначе, кроме как холодно?
Остывший бог знает как давно пластиковый стаканчик, на дне которого что-то не то плещется, не то перекатывается крупицами льда, намекает — возможно, все же не весь день. Возможно, она заходила в какую-то из этих крошечных забегаловок, в которых все чаще толпятся мексиканцы, и где почти не бывает камер наблюдения. Возможно, она купила там не только стаканчик кофе, но и такос или хот-дог, или проклятую целую сотню тысяч раз картошку.
Картошку с клюквенным соусом
Радостный детский голос раздается словно над ухом, звенит в голове хрупким колокольчиком из тонкого стекла. Пальцы невольно тянутся щелкнуть по значку Белоснежки на клапане сумки, но не гнутся, тыкаются в круглый пластик, сжимают его в ладони, пытаясь не то отодрать, не то спрятать от редких снежинок.
Кажется, даже если она и покупала что-то кроме кофе, то делала это или слишком давно, или в одном из уличных фургончиков, раз тело промерзло почти насквозь.
Палец поддевает крышку стаканчика, тянет ее вверх — если посмотреть, в каком состоянии остатки напитка, наверное, получится понять хоть что-то. Или, если выйти из подворотни, в которую она забилась, на свет и прочитать, что написано на плотном картоне.
Замерзшая плоть соскальзывает с пластика.
Шейна пробует снова, прижимает палец к краю крышки плотнее, дергает его вверх сильнее и резче.
Пластик окрашивается темным, словно остатки напитка каким-то чудесным образом просочились сквозь него или выплеснулись наружу через крошечное отверстие, словно она купила не привычное капучино, а просто черный кофе, может быть даже без сахара — чтобы вышло дешевле.
Еще одна попытка — палец соскальзывает даже с картона, оставляя после себя темную, наверное, темно-красную, полосу.
Холод не наваливается — впивается в тело тонкими лезвиями, множеством обжигающе-ледяных клинков, легко разрезает кожу, проникает в мышцы, достает, кажется, до самых костей.
Пластиковый стаканчик падает под ноги, катится в сторону, оставляя за собой прерывистую цепочку темных пятен-следов. Несколько капель легко проходят сквозь снег рядом с ботинками, прожигают его, исчезая в светлом холодном ковре.
Шейна переводит взгляд на руку — кровь ползет по пальцу на середину ладони, чертит на коже почти ровную линию, но не жизни и не ума, так уж точно.
Кончик языка осторожно прижимается к густеющей от холода капле, ведет по коже вверх, стирая темный след. Кровь кажется совершенно безвкусной, не отдает ни металлом, ни солью, хотя авторы детективов в пестрых бумажных обложках сейчас бы поспорили с этим утверждением.
Нога медленно скользит вперед, не отрывая подошву ботинок от притоптанного ею же снега, словно боясь, что если точек опоры хоть на мгновение станет на одну меньше, то тело рухнет и разлетится на части, как сброшенная с высоты ледяная скульптура.
Шейна прижимает язык к порезу на пальце — накрывает порез языком — и закрывает глаза.
В конце концов, она хотела сбежать, она почти планировала это, если что-то настолько абстрактное вообще можно планировать, она ведь даже прикидывала, как добраться до той ночлежки от школы и от приюта, от двух точек, из которых она могла бы выбраться хоть куда-то…
Но я не хотела, чтобы получилось вот так! Я не хотела!
Плечо упирается в стену, будто грязный кирпич или облупившаяся краска поверх бетона вдруг стали единственной опорой. Тело скользит вниз, сползает по стене брошенным в нее снежком. Шапка сбивается, замирает на макушке уродливой пародией на берет, и Шейна стягивает ее, сминает в руках, прижимаясь виском к шершавому кирпичу. Сумка ложится на снег, — может быть, даже на капли крови или на выпавший из рук стаканчик, — ремень соскальзывает с плеча, теряется широкой светлой лентой на светлом фоне.
Тело дрожит.
Тело бьется под одеждой, как крохотная шоколадная конфета в упаковке из толстого пластика, которую трясут в руках не то проверяя, как скоро цельный комок разлетится в крошку, не то просто не зная, чем занять руки, и уж точно не думая о том, что испытывает в этот момент продукт переработки какао-бобов. Или же — уверенные, что десерт вообще не может ничего чувствовать.
Тело дрожит.
Тело хватает воздух ртом, задыхаясь и от недостатка кислорода, и от крика, который клубится в груди ядовитым дымом. Тело заходится дрожью, как слезами — крупными, частыми, — было бы оно из металла, из какой-нибудь стали, наверное, звон сейчас стоял бы такой, что сбежались бы все копы в округе.
“Они и сбежались” — мысль проносится в голове гоночной машиной по овальной трассе, как только совсем рядом за углом раздаются шаги.
Замерзшие руки двигаются резко и отрывисто, но быстро — подхватывают ремень сумки, набрасывают его на плечо, прячут волосы под капюшоном. Раскрытая ладонь касается стены, готовая в любой момент упереться в нее, поддержать рывком распрямившееся тело.
Шаги проходят мимо, не замедляются ни напротив входа в подворотню, ни даже за ним — словно тот, под чьими ногами сейчас скрипит снег, оказался здесь, может, и не случайно, но уж точно не для того, чтобы загнать ее, Шейну, в угол, выбраться из которого получится только одним способом — сдавшись. Или позволив себя убить.
Замерзшие и наверняка давно посиневшие губы чуть вздрагивают, пытаясь изобразить подобие улыбки — она не может быть настолько значимой, не может быть настолько опасной, чтобы ее собрались убивать.
Вспыхнувшие в памяти темно-синяя машина и желтый автобус усмехаются, хохочут, выпуская из развороченных капотов клубы черного дыма.
Вспыхнувшие в памяти темно-синяя машина и желтый автобус щурятся лопнувшими от жара колесами: ты правда думаешь, что это было совпадением, чистой случайностью, в которой мог пострадать совершенно любой из учеников школы, но задело почему-то тех копов, которые хотели тебя удочерить, Риту и Джей, просто решившую побыть с твоей мелкой, чтобы ты не волновалась?
Шейна глубоко вдыхает — холодный воздух волной дрожи проходит по телу, вибрирует где-то в груди, пульсирующим комом застывает в животе — и медленно выдыхает, шагая вперед.
В конце концов, она выжила, — глупо, непозволительно глупо тратить время, которое у нее еще есть, на то, чтобы совершенно прозаично замерзнуть в подворотне.
Окоченевшие пальцы комкают шапку, прячут ее в карман куртки, прячутся в него и сами. Окоченевшие мышцы с трудом, но все же поворачивают голову из стороны в сторону, позволяя оглядеться, зацепиться взглядом за сине-зеленые отсветы какой-то вывески или гирлянды на соседней улице, а обонянию почувствовать сладко-масляный запах выпечки — пончики, так пахнут только они.
Стиснутые в кулаки ладони только глубже прячутся в карманы — хочется есть, хочется прямо сейчас впиться зубами в горячую хрустящую корочку, впиться так, чтобы только вынутое из раскаленного масла тесто обязательно обожгло небо, чтобы потом пришлось стоять с открытым ртом, жадно вдыхая морозный воздух.
Шейна дергает головой — поесть, конечно, нужно. И она обязательно купит себе что-нибудь, но не пончики — слишком дорого и совершенно не сытно, просто мгновение удовольствия и тепла, а сейчас нужно совсем другое: тарелка супа, коробочка лапши на вынос или хотя бы хот-дог.
А еще, сейчас нужно дойти до ночлежки, адрес которой дал Мартин, где не станут задавать слишком много вопросов, — или вообще не зададут ни одного, — а просто возьмут деньги и вручат ключ от какой-нибудь комнаты. Или покажут на кровать или хотя бы на матрас, на котором можно свернуться калачиком, как в детстве, когда у нее болел живот, и дождаться утра.
Стиснутые в кулаки ладони упираются в ткань карманов так сильно, словно хотят порвать ее, плечи поднимаются к голове, — или это голова вжимается в плечи, — стоит только шагнуть из проулка в круг тусклого фонарного света на узкой улице. Снег слепит глаза ярко-белым, заставляет щуриться, всматриваясь в протоптанные на тротуаре следы: несколько ровных цепочек — одни глубокие, совсем свежие, другие едва различимые, оставленные раньше.
Ноги шагают в сторону оживленной улицы — сначала медленно, словно она идет против сильного ветра или поднимается по отвесной горе, а затем все быстрее, становясь все больше похожей на спортсмена, который набирает скорость перед прыжком в длину.
Эштон Франсис Уэйд в ее мыслях улыбается, но качает головой, не осуждая, а лишь подсказывая — нужно иначе, нужно не привлекать внимания, нужно не отличаться от других, которые сейчас ходят по улицам, болтают по телефонам, смеются, толпятся у витрин, засмотревшись на пряничные домики или выбирая подарки родным… Которые не похоронили родителей несколько месяцев назад. И у которых уж точно не погибли сегодня близкие, единственные оставшиеся близкие. Трое близких людей.
Шейна дергает головой и закусывает губу, а уже через мгновение виновато улыбается, безмолвно извиняясь перед высоким широкоплечим мужчиной, в которого она чуть не врезалась. В его руках — большие бумажные пакеты, на его лице — усталость.
— Простите, — смущенно бормочет Шейна, невольно подмечая, что из пакета торчат французские батоны, от которых до сих пор идут тонкие струйки пара.
— Это вы меня, — качают головой в ответ, пробегают по лицу внимательным, цепким взглядом копа. — Праздничная суета не повод не смотреть перед собой.
Улыбка вздрагивает на губах — праздничная суета вообще не должна быть поводом для чего бы то ни было, кроме как для покупки подарков или развешиванию гирлянд.
— Вы живете где-то рядом? — уточняет коп, удобнее перехватывая пакеты. — Сегодня лучше не ходить по улице одной. Если родители не могут вас встретить, давайте я провожу.
Его рука тянется к карману пальто, достает темный бумажник и тут же распахивает его, показывая жетон.
— Сержант Ричард Гордон, центральное управление, отдел организованной преступности. Вы можете позвонить, назвать номер моего жетона, чтобы удостовериться, что я тот, за кого себя выдаю.
Коп говорит совершенно спокойно. Коп не пытается хватать ее за руку и тащить в машину или куда там он должен тащить ее за побег из приюта. Коп просто предлагает свою помощь, как если бы видел в ней сейчас обычного ребенка, которого родители не забрали после школы домой.
— Зачем кому-то может понадобиться притворяться вами, сержант Ричард Гордон из центрального отделения, — удивленно переспрашивает она, мысленно отмечая, как на мгновение в яркой витрине отражается улыбка отца, не сразу понимая, что перепутала место работы стоящего напротив. — Спасибо, но мне недалеко, да и родители только сильнее будут волноваться, если я приду домой в сопровождении полицейского.
— Да уж, о такой реакции я не подумал.
Коп понимающе кивает, убирает жетон, а уже в следующее мгновение протягивает ей обернутый в прозрачный пластик леденец в форме Рудольфа.
— Если вы придете домой с подарком, они тоже будут волноваться?
— Я могу сказать им, что купила его сама, — легкая, чуть смущенная улыбка ложится на губы, одновременно с тем, как щеки вспыхивают румянцем. — Но только в том случае, если он продается в ближайшем квартале, и вы скажете мне его точную цену.
— На случай, если вас спросят, сколько вы на него потратили?
— Нет, — Шейна качает головой. — Чтобы я могла отдать вам эту сумму.
Уголки его губ ползут вверх, но рука с леденцом не торопится опускаться.
— Кажется, ваши родители могут быть примером того, как нужно воспитывать детей, — чужая улыбка кривится, как от болезненного воспоминания. — Возьмите, это просто подарок, за него не нужно платить. Считайте его попыткой хоть как-то сгладить то, что я в вас врезался.
Шейна чуть наклоняет голову к плечу, почти уверенная, что у происходящего есть какая-то другая причина, намного более важная чем то, что два человека столкнулись на заснеженной улице.
— Или попыткой копа извиниться за то, что сегодня творится в городе, — позволяя улыбке стечь с лица усталостью, произносит он.
— Мне кажется, что извиняться за это должны не вы, сержант Ричард Гордон, — глухо произносит она, медленно поднимая замерзшую руку.
— Может быть, — широкие плечи чуть вздрагивают, будто коп пытается пожать ими, но не может из-за объемных пакетов. — Счастливого Рождества.
— Счастливого Рождества, — слова кажутся больше похожими на крупицы снега, оседают на губах замерзшим паром.
Она замечает, как хмурится сержант Ричард Гордон, как он словно собирается что-то спросить, например, как ее зовут, или еще раз предложить проводить… Но из магазина, у которого они столкнулись, вываливается шумная толпа, оттесняет их друг от друга, позволяя затеряться среди пестрых шарфов и шапок. И Шейна сливается с этим смеющимся потоком, следует вместе с ним по широкой улице, как можно дальше и как можно быстрее. Мимо зелено-красных мигающих вывесок, мимо красно-синих бликов, под звон колокольчиков, вой сирен и скрип собственных зубов.
Зеленый. Красный. Синий. Зеленый. Красный. Синий. Зеленый…
На фоне белой двери цветные блики кажутся такими яркими, словно сейчас кто-то стоит за окном и быстро переключает линзы на карманном фонарике. Это даже могло бы быть правдой, если бы окно находилось на первом этаже, а не на третьем. Или если бы к нему подходила пожарная лестница. Но ее нет — это Шейна проверяла отдельно, выбирая комнату. И радовалась, что рыжеволосая женщина, показывавшая ей варианты, не задала ни единого вопроса, да и смотрела так, словно в подобной осторожности нет ничего подозрительного.
Это ночлежка, в которой не спрашивают документы
Шейна помнит, как всплыла тогда в памяти чужая глухая усмешка, растеклась на губах болезненной дрожью. Как оказалось, в этой ночлежке вообще ничего не спрашивают, только говорят, сколько будет стоит комната на сутки, и показывают черный выход.
Пальцы постукивают по круглому значку с Белоснежкой, попадают то по нарисованному носу, то по ярко-розовому банту, то соскальзывают с пластика и прикасается к шершавому клапану сумки. Затылок упирается в стену, висок прижимается к краю подоконника, прижимается так сильно, что Шейна уверена — на коже останется след. Впрочем, кто станет присматриваться?
Ей нужно поспать — хотя бы несколько часов, хотя бы несколько минут, хотя бы… Ей нужно поесть — потому что один хот-дог и стаканчик кофе это слишком мало для того, кто провел на заснеженных улицах половину дня. Ей нужно хотя бы просто закрыть глаза, чтобы позволить и телу, и мозгу немного отдохнуть. Ей нужно…
Ей страшно, что если она зажмурится или хотя бы моргнет настолько медленно, что пробудет в темноте дольше одной секунды, то вернется в прошлое на несколько часов назад, вернется на школьное крыльцо, снова прилипнет взглядом к горящей машине… И к мальчишке с темными волосами, который пытался разбить окно выломанным почтовым ящиком.
Затылок отрывается от стены, чтобы через мгновение с легким стуком снова упереться в нее. Шейне совсем не хочется думать о том, сколько она сможет без сна. И как долго при этом она сможет сохранять бдительность, прислушиваться и слышать то, что действительно происходит, а не то, что мерещится от усталости или напряжения.
Ей вообще ничего не хочется, кроме как сидеть рядом с окном и смотреть на дверь, — следить за дверью, — не то боясь, что за ней придет полиция, не то ожидая, что копы и правда это сделают. И тогда ее не спасут ни скорость, ни знание того, где находится неприметная дверь черного входа.
На улице тихо, — уже почти сотню минут как тихо, — если не брать в расчет едва уловимые звуки рождественской мелодии, которую крутят сейчас на каждом углу. На улице тихо, и будет так еще час или два, пока город не проснется, не превратится снова в гудящий и толкающийся муравейник, пока улицы не наполнятся людьми, которые торопятся на учебу или на работу, пока по заснеженным тротуарам не протянутся цепочки следов, оставленные живыми…
Затылок только сильнее упирается в стену, вжимается в нее, желая если не продырявить, то хотя бы оставить существенную вмятину. Хочется смеяться, уткнуться лбом в колени и смеяться, громко, так, чтобы потом болели щеки и живот, чтобы пересохли горло и губы… Да что угодно, только бы это ощущение заглушило другое, не менее острое и неприятное — не прошло еще и суток с того момента, как живых в этом городе стало на несколько детей меньше.
Ступени скрипят под подошвами ботинок, и Шейна думает, что это забавно — на тех двух этажах, по которым она ходила, половицы просто идеальны и не издают ни единого звука, когда на них наступаешь. И двери открываются бесшумно — как минимум те, которые она проверяла. А вот ступени — скрипят, готовые предупреждать о гостях.
И о том, что ты решил спуститься, — тоже.
Нога замирает в дюйме от небольшого коврика, расстеленного перед лестницей, стоит Шейне только услышать доносящийся из холла разговор. Она досадливо морщится — кто бы ни находился сейчас за поворотом, скрипучая лестница уже выдала ее присутствие, и если сейчас развернуться на месте и вернуться в свою комнату, то от лишних вопросов будет не отвертеться.
— Это телевизор, кроме меня тут никого, — слышится из-за угла, и нога опускается на коврик. — Мы включаем новости, когда пусто, какой-нибудь сериал при заселении, а тишина означает, что здесь копы или еще кто-то из системы.
— Спасибо, — Шейна слабо улыбается, нашаривает в кармане куртки оставшиеся монеты, сжимает их в кулаке. Взгляд невольно скользит по стене вверх, до прямоугольника экрана, на котором мелькают разноцветные картинки. Все больше желто-рыжие.
— Комната без кровати стоит на пять баксов дешевле, — ровный голос заставляет вздрогнуть, мотнуть головой в сторону рыжеволосой женщины за стойкой. — Но если не спать больше тридцати часов, теряешь скорость реакции и перестаешь адекватно воспринимать реальность, хотя тебе будет казаться, что, наоборот, начинаешь слышать лучше или видеть четче.
Шейна ведет плечами, глубже прячет кулаки в карманы.
Под утро, когда к доносящейся с улицы мелодии добавились сигналы машин, ей и правда показалось, что она стала лучше видеть — лучше различать оттенки отсветов на двери, выделять среди таких похожих разводов те, которые были отражением гирлянд, и те, которые вспыхивали из-за проезжавших мимо машин с мигалками. Ей даже стало казаться, что ей вообще не нужно спать, что чем меньше времени она проводит с закрытыми глазами, тем лучше себя чувствует — тем бодрее себя чувствует.
Ей казалось так, пока она не встала, пока не начала спускаться на первый этаж, пока не пришлось опереться плечом о стену, чтобы не запнуться об абсолютно ровные доски и не скатиться кубарем вниз.
— ...вечером.
Шейна качает головой, медленно поворачивается к рыжеволосой женщине, с трудом отрывая взгляд от экрана телевизора, — обрывки картинок тянутся следом, как тонкие нити высыхающего клея между листами бумаги.
— Если долго не спать, не сумеешь потом проснуться, — отвечают ей, не поднимая головы. — Аренду можно продлить вечером.
— Лучше сейчас, — измятая банкнота ложится на деревянную поверхность. — За двое суток. И кофе, пожалуйста.
— Сдачу мелкими или предпочитаешь не носить с собой кучу бумажек?
— Несколько десяток и монеты, — после недолгого молчания отвечает Шейна.
Ей в ответ хмыкают, на стойку ложится несколько банкнот и горсть металлических долларов.
— Двое суток оплачено.
— А кофе? — Шейна быстро прячет десятки во внутренний карман куртки, сгребает монеты со стойки, пересчитывает их взглядом, прежде чем сжать ладонь в кулак. — Или так нельзя и нужно заказывать завтрак?
— У нас нет ни того, ни другого.
— Вы не готовите?
— Это ночлежка, а не отель.
— С ними вы могли бы брать на пару баксов больше.
Рыжеволосая женщина поднимает на нее взгляд и усмехается, прежде чем покачать головой.
— Если не хочешь выходить на улицу, просто скажи об этом.
Шейна поджимает губы, убирает руки с обшарпанной, но на удивление чистой стойки.
— Здесь не задают вопросов, девочка. Я думала, тебе это известно. Но, наверное, сложно в это поверить, да?
— Вроде того, — тихо отвечает Шейна и чуть ведет плечом.
— Не то, чтобы мне было совсем плевать, почему люди хотят анонимности, малыш, но я не полезу на участок, который огорожен забором. А чужая личная жизнь — как раз такой участок.
— Вот так просто?
— А зачем усложнять? Я сбежала из дома в семнадцать, шлялась по улицам, пока не поняла, что одна не справлюсь, и не пошла к копам. Но это дело каждого — идти к ним или продолжать делать вид, что ты справишься сам. Я не какой-то мессия или как они там зовутся, но я могу дать крышу над головой и не самую паршивую постель за небольшую сумму. Остальное дать тебе можешь только ты сама.
— Но продавай вы кофе или завтраки, вы могли бы брать на пятерку больше.
— А зачем усложнять? — повторяет женщина, уже не улыбаясь, а смеясь в полный голос. — Здесь можно переночевать, девочка, заплатив пару Гамильтонов*. Тем, кто сюда приходит, нужна безопасность, а не трехразовое питание.
Шейна открывает рот, чтобы возразить или хотя бы объяснить, почему завтраки могли бы быть хорошей идеей, как стоящая напротив качает головой.
— В этом месте можно просто говорить, — мягко, как учитель начальной школы, произносит она. — Например, что тебе нужно поесть или выпить кофе, но ты не хочешь выходить на улицу.
Спрятанный в карман кулак разжимается, глухо звенит металл.
— Моя сменщица будет через три часа. Можешь что-нибудь заказать, она привезет.
— А кухни у вас нет? — начинает Шейна и закусывает губу, невольно отступая на шаг под пристальным взглядом.
— На случай, если ты боишься, что в бургере будет яд, она может взять тебе тоже самое, что и себе. Если ты просто любишь готовить, то все сложнее.
Пальцы сгребают монеты в кармане, сжимают их так сильно, что металл впивается в ладонь рифлеными ребрами.
Рыжеволосая женщина скрещивает руки на груди и несколько мгновений смотрит на Шейну в упор, прежде чем покачать головой, а затем распахнуть дверь за ее спиной.
— Там чайник, пара кружек и банка с растворимым кофе. Сахар, кажется, еще оставался, — кивок указывает на дверной проем, ведущий в небольшую комнату. — Можешь звать меня Рид. Твое имя мне знать не обязательно.
Ей хотелось бы накинуть капюшон, — спрятаться под капюшоном, — натянуть его так глубоко, чтобы никто не смог разглядеть выражение ее лица. Вот только это было бы уместно под дождем или хотя бы снегопадом, а в теплой комнате — совсем наоборот.
— Тот, кто дал тебе мой адрес, явно провел здесь всего одну ночь, — смеется Рид и щелкает выключателем в небольшой комнате. — Иди уже сюда, хоть кофе выпьешь и проснешься. А то жмешься так, словно за каждым углом ищешь копа. Их здесь нет.
— Я знаю, иначе бы уже сбежала, — тихо хмыкает Шейна через несколько минут, когда в небольшой комнате начинает свистеть закипевший чайник. — Элис.
— Как скажешь, — Рид пожимает плечами, ставит на небольшую тумбу две пузатые кружки и открытую жестянку с растворимым кофе.
Шейна осторожно улыбается — как скажет, все верно. В конце концов, она сейчас не врет, а называет одно из своих имен. Подумаешь, третье в списке.
— Спасибо.
Смесь кофе и сухого молока пенится, стоит только залить ее кипятком. Тепло медленно растекается по толстой керамике, согревает замерзшие пальцы.
— Так что тебе привезти из еды? Такос, картошку, бургер?
Шейна крепче сжимает кружку в ладонях, дует на горячий напиток и облизывает губы, прежде чем сделать первый осторожный глоток.
— Я могу приготовить на всех, — тихо начинает она, не отрывая взгляд от быстро исчезающей пенки.
— Можешь. Но только в том случае, если это просто твое желание, а не попытка получить что-то взамен, — соглашается Рид, делает большой глоток кофе и пожимает плечами, видимо, заметив ее усмешку. — Не люблю тратить время, поэтому говорю все прямо.
— Мне раньше нравилось готовить, — Шейна осторожно улыбается, удобнее перехватывает горячую кружку. — И делать это на всех удобнее, чем на одного. Хотя бы с точки зрения грязной посуды.
Рид смеется и качает головой. И не произносит ни слова, только смотрит на нее в упор — словно вот так, будто проникая взглядом под кожу, она может получить ответ на любой из незаданных вопросов.
— Бумага и ручка на стойке. Напиши, что и в каком количестве тебе нужно, я передам. — Рид едва заметно кивает, делает еще один большой глоток. — Она приедет часа через три. Или увидишь старый зеленый форд, или услышишь — он тарахтит так, что заглушить его может только дюжина сирен.
#28903 в Проза
#16155 в Современная проза
#15822 в Молодежная проза
#7126 в Подростковая проза
Отредактировано: 29.11.2018