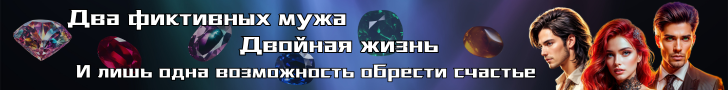Он - мой, она - моя, оно - мое
Он - мой, она - моя, оно - мое
Утюг тихонечко шипит, выпуская из носика струйки белого пара. Гладильная доска слегка лязгает, когда я нажимаю на нее. На стуле рядом - ворох мужских рубашек, их надо гладить.
Приступим...
Сначала воротник, два медленных, с усилием движения: влеееево, впраааааво.
Полочки: левая - с карманом, правая - с пуговицами...
Пахнет горячей влагой, пар поднимается вверх.
Люблю гладить мужские рубашки. Он сказал: не надо - заберет их так, мятыми, вечером, когда высохнут и можно будет уложить их в чемодан.
Что нас связывало? Наверное, время. Пять прожитых вместе лет. Что еще? Наверное, рубашки. Он любил каждое утро надевать свежую, а я любила гладить. Как я теперь без них? Мне всегда нравилось снимать их с балкона, вдыхая свежие, уличные ароматы: влажного утра, осенней свежести, легкого морозца, ударившего ночью. Они хранили эти запахи, вносили их в дом, наполняя квартиру радостью.
Разве могут сравниться с ними скучные прямоугольники простыней? Крохотные клочки нижнего белья? Нет.
Гладить мужскую рубашку - это танец, это действо. И я включаю Грига.
Серая рубашка - гладя воротник, я просыпаюсь с Пер Гюнтом. Я удираю от троллей, скользя между пуговицами, оббегая карман; эта рубашка - красная. Путаюсь в рукавах, залезаю на изнанку манжет, танцуя с Анитрой на оливковом поле. Оэ умирает, и я медленно двигаюсь по гладкой прямой спинке. Ее цвет - белый. Плачет Сольвейг. Это - любимая, кремовая. Я осторожно отглаживаю плечи, стараясь не задеть воротник, не посадить складок на спинку.
Потом я выключаю музыку - сразу, как стихает голос Сольвейг. Не люблю, когда истории заканчиваются.
***
"Солнечные зайчики спрыгивают с кленовых листьев, скользят по стволам, пробегают по пыльной траве и снова взбираются вверх.
Она-Моя стоит под деревом. Я слышу ее запах: лекарства, вареная рыба, молоко, стиральный порошок, мыло, старость... Немного валерьянки. Она-Моя пролила каплю на тапок пару дней назад. Аромат, сводивший меня с ума, почти уже исчез, но тонкая его ниточка все еще волнует. Я соскакиваю со скамейки, лениво подхожу и, тыкаясь носом в ногу, провожу по пятнышку уголком розового рта.
- Девушка, миленькая, - голос у Нее-Моей тих и слаб, он дрожит и присвистывает. Она-Моя зовет какую-то прохожую, - проводи меня...
Девушка не слышит, проходит мимо.
Она-Моя опять забыла, где живет - с ней бывает такое. Я сажусь рядом, готовая ждать, пока сознание хозяйки прояснится. Мне не страшно: я-то знаю, где наш дом, и могу найти еду. Она-Моя частенько забывает меня покормить, и тогда я возвращаюсь на помойку и ем там. Ухо у меня уже надорвано и бок покусан, но я могу дать отпор любому, я молодая и сильная.
Временами думаю: зачем Она-Моя мне нужна? Благодарность... Да к черту ее, благодарность! Не в благодарности дело. Просто есть связь. Тонкая, неощутимая, но есть.
Я помню голод и страх, помню, как огромный черный кот надвигался на меня у помойки. Помню вожделенный запах съестного и его страшные глаза. Я выгнула спину, зашипела; кто-то из людей засмеялся, глядя на меня, и прошел мимо. Помню "Брысь!", помню, как кот сбежал, и как Она-Моя подняла меня и положила себе за пазуху. Там было тепло и пахло молоком. Кофта Ее-Моей была шерстяной и колючей и, забывшись, я стала сосать чужую жесткую шерсть и, пока Она-Моя шла от помойки до дома, высосала большую мокрую сосульку. Потом было молоко, вареная рыба и крохотный кусочек сыра... Лапы мои ослабли, я упала на ковер и проспала там целый день...
Теперь я думаю: что будет, если Она-Моя однажды не найдет дороги домой? Такое может быть, ведь руки ее покрыты морщинами, кожа дряблая, и пахнет от Нее-Моей тревожно - болезнью. Думаю, это будет не страшно: разорвется связь, исчезнет дом, я получу свободу, а без Нее-Моей станет даже проще.
И вот Она-Моя замерла. Недвижимая, лежала она на диване. Воздух вокруг подернулся холодом, руки не дрожали больше, не поправляли ежесекундно ворот и косынку. Нить была разорвана, я - свободна.
Я вскочила на подоконник, взглянула на открытую форточку: один прыжок, и на улице. Хотела прыгнуть, но не смогла.
Легла у нее в ногах, прижалась, пытаясь разогнать настойчивый холод. Задремала с чувством, что в боку - ледяная игла. Мне стало больно, я почувствовала себя старой. Голова склонилась вниз, и нос коснулся дивана.
Потом за Ней-Моей пришли. Двое резких, пахнущих холодом людей взяли ее за плечи и за ноги.
Я бросилась на них, царапалась, кусалась, шипела. Она - моя! - кричала я. - Не смейте ее забирать!
Меня пнули в бок. Стрелой я взлетела на подоконник, потом - на форточку. Обернулась: Ее-Моей больше не было. А связь - была, как ни пытались те, холодные и резкие, порвать ее."
***
Ночь. Компьютер гудит, бьет в окна дождь. Чемоданы исчезли из прихожей. Я одна, и могу писать где, как, когда и сколько хочу - я получила свободу, оно - мое писательство - принадлежит мне безраздельно. Могу обдумывать сюжет, жуя конфеты, и кидать на пол конфетные фантики, и ставить рядом с клавиатурой чайные чашки - никто ничего не скажет.
Но я не кидаю фантики и не ставлю чашек: мне так хотелось сделать это раньше, а теперь - больно. Больно смотреть на двуспальную кровать, которая мне больше не нужна, на опустевший балкон, в прихожую, где не висят его куртки, в угол, где раньше стояла гитара.
Что делать? Только писать.
И вот из звуков Грига рождаются зайчики, спрыгивающие с клена, и боль становится кошкой. Черты его лица стираются, я старю его, меняю; лицо пластилиновое, я леплю, леплю, леплю, и вот он - старуха... Рубашки становятся крохотным пятном на ее ноге, моей сводящей с ума валерьянкой. Моя боль трется о пятнышко уголком розового рта. Розовый рот превращается в утюг, утюг - в жаркий свет летнего дня, летний день исчезает, он мне не важен... Я - умершая старуха, и он - умершая старуха, и оба мы - кошка, и гитара становится медбратом, берущим меня за ноги... Я хочу разодрать гитару в клочья, но ее нет, он ушел вместе с ней! Я оборачиваюсь, и не вижу его, старухи, гитары, кошки; не вижу рубашек. Но вот же они, у меня на листе, и в моей голове! Так есть они, или нет? И если есть, то где? И есть ли боль, рождаемая этими образами?
Я ничего не понимаю. Я просто пишу.
Но разве это может помочь? Мне все еще больно...
2008 год