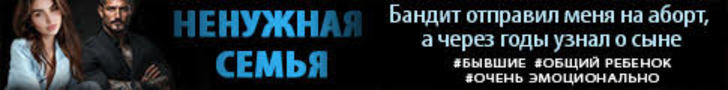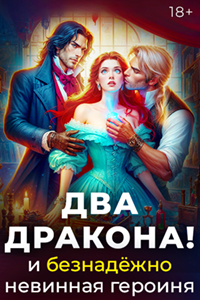Она
Она
Она всегда была рядом со мной. Мы познакомились год назад, но мне казалось, что прошло уже не меньше десяти лет с момента, когда я впервые услышал ее голос.
Она очень любила болтать. Когда мы гуляли — говорила обо всем. О том, как громко забивали гвозди в соседней квартире, о том, что видела по телевизору передачу о моде, о том, что газеты нынче скучные, и лучше читать английскую литературу в переводе. И я слушал. Слушал и млел, потому что это было чудесно. Она была такой свободной, как будто даже физические законы не могли удержать ее. Ну или хотя бы ее фантазию. В голове этой девушки — настоящий мир, совершенно не похожий на наш. Там нет правителей и диктаторов, нет богатых и бедных, нет голодных, нет грустных, нет злых и завистливых. Там есть только она, и все самое доброе, что только можно вообразить. И мне ужасно льстило то, что она меня туда впустила.
Она много шутила и много смеялась. Я, не задумываясь, смеялся тоже. Даже если я понятия не имею кто такой Чапаев, и не смотрел фильм о Штирлице. Мне просто было хорошо от того, какая солнечная она была со мной. Ее рыжие волосы — настоящий пожар. И я горел, и сердце мое горело, и было на душе так легко, как примерно никогда раньше.
Она носила яркие, в цветочек платья. Красные, розовые, зеленые, не-желтые-а-цвета-охры, господи, как будто каждый день на ней расцветала клумба. И ей шло. Ей чертовски шло.
Я звал ее на танцы, и вместе мы проводили десятки летних и весенних вечеров. Она то кружилась со мной под ласковый май то, закрыв глаза, качалась и держала за руки во время медляков. И я был пьян. Нет. Опьянен — а это, поверьте, разные вещи! И будто крылья вырастали за спиной и рвали олимпийку каждый раз, когда она была рядом.
Она писала стихи. Что-то о любви, о природе, о смерти, о женщинах. Она мечтала, что когда-нибудь станет известна, и в новых учебниках советской литературы будут печатать ее произведения. Я видел однажды, как она сидела у окна с пером, настоящим пишущим пером,большим и красивым, — ей подарил его отец — и писала, напевая что-то тихо. Я тогда шел мимо ее дома, и долго смотрел в окно третьего этажа, наблюдая за тем, как она создает очередной шедевр.
Я никогда не курил при ней. Мне было стыдно. Бросить так сразу не вышло, но я очень старался. Каждый раз пока ждал ее, чтобы проклятый дым не попал на эти чудесные волосы, на ее цветастые платья, я убегал к соседнему подъезду, и курил так аккуратно, будто мне десять, и дома за запах табака получу нагоняй. Что поделать.
И я ничуть не сожалел о том, что однажды решил заговорить с этой чудесной девушкой. Я дарил ей цветы, я катал ее на своей старенькой машине, в которой после всегда оставался шлейф ее сладких французских духов. Точно знаю — французских. В Союзе таких не достать.
Я молился на нее, боготворил, и, черт возьми, я искренне верил, что она самый настоящий ангел. Не понимал только, чем я заслужил в своей никчемной жизни такую как она.
Когда мы стали жить вместе моя маленькая серенькая квартирка стала меняться с сумасшедшей скоростью. Я вынес весь хлам в тот же день, как она переступила порог. Больше не было ни коллекции бутылок из-под пива, ни рамы от велосипеда, ни кассет с какими-то глупыми фильмами. Зато появились книги. Она принесла с собой все, что стояло у нее дома на полках. Мы вместе читали по вечерам, когда приходили после работы. Ей нравилось, когда я зачитывал что-либо вслух. Мне нравилось, когда она улыбалась.
Я помню, как осенью восемьдесят девятого она собирала в парке листья. Желтые, красные, коричневые — для нее не было разницы. Она плела из них большие и красивые венки, а после отпускала их по реке, чтобы они уплыли куда-нибудь далеко.
Она танцевала под листопадом, пока я, как мраморная статуя, стоял и смотрел, как она кружится и улыбается. Эта улыбка сделала меня совсем другим, хоть я и не сразу это понял.
Старые скульптуры смотрели на меня и посмеивались: “Ну что, попал ты, парень?”. Попал. Попал еще как…
Ее не стало этой же зимой. Без объяснений, без ссор и без слез. Я не нашел дома ни ее, ни хоть каких-то следов, ни прощальной записки. Ничего. В квартире было пусто и тихо, и лампочка на кухне светила уже не так ярко, как раньше.
И я тогда не понимал. Совсем ничего не понимал: ведь ей было так хорошо, почему же… Я что-то сделал не так?
Я метался в раздумьях каждую ночь. Пытался убедить себя в том, что все наладится. Я буду работать как раньше, буду ходить летом на танцы, буду читать Джека Лондона по вечерам. И мне казалось, что все действительно так. Но я чувствовал, и не мог отделаться от этого поганого ощущения того, что от меня только что оторвали кусок, без возможности восстановить.
Крылья, которые она дарила мне одним своим существованием, поднимали меня высоко, под самые облака. Она была для них как батарейка, летала сама, и помогала взлететь мне. Но я не учел один момент, как обычно. Крылья отвалились от спины как только она перестала быть.
Я не хочу знать где ее похоронили. И похоронили ли вообще. Может быть сумасшедшие родственники сделали из ее невероятного тела прах, и засыпали в фарфоровую урну. А может она и не умирала вовсе, а просто собрала свои вещи и уехала куда-то далеко.
Мне хотелось верить, что она просто взяла маленький розовый чемоданчик, села на пароход и уплыла в Уругвай. В солнечную Южную Америку, где синеет море и шумят на ветру пальмы. Она сейчас где-то там, ходит по пляжу в солнечных очках и полосатой шляпе и, может быть, вспоминает меня.
А я… А что я? Я никаких чемоданов не собирал, и никуда не ехал. Я остался работать, поливать цветы в квартире, и перечитывать книги, которые ей достались с таким трудом.
“Больно… Больно — это когда бьют в живот ногой в подворотне. Или когда стреляют в лоб. Или когда в крошки ломают грудную клетку. А это все — баловство. Самое настоящее.” — Думал я вечерами, когда становилось совсем невмочь. И старый дедовский метод работал.
#13041 в Проза
#5760 в Современная проза
#48673 в Любовные романы
#10047 в Короткий любовный роман
первая любовь, открытый финал, подразумеваемая смерть персонажа
Отредактировано: 22.07.2024