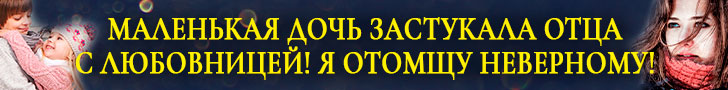Опережающий
Опережающий
Когда он проснулся, его окружала тьма, настолько густая и плотная, что он почувствовал, как она липнет к коже. Он невольно задержал дыхание и провел по лицу ладонью. Лицо было мокрым, но, конечно, не из-за темноты. Просто ему опять снилось это…
Тем летом ему исполнилось шестнадцать. Он был таким, как все. Он думал, как все; говорил, как все; даже выглядел, ничем не отличаясь от «среднестатистического» деревенского парня: до белизны выцветшие под летним солнцем волосы, загорелое худощавое тело, сильные, жилистые, с широкими ладонями руки, мосластые, как у большого щенка, ноги. Да он, по сути, и был тогда щенком, с любопытством и удовольствием взирающим на пестрый, шумный, не вполне еще понятный мир. Только настоящие щенки взрослеют хоть и быстро, но не в одночасье; он же стал взрослым за те несколько мгновений, пока огромная часть обрывистого берега падала в равнодушно-спокойный, медлительно-величавый темный поток реки. Он тоже стоял на том берегу. Они стояли. Как ее звали? Лена, Света?.. Они целовались, когда стремительная трещина промчалась меж ними, оставив девчонку с ее продолжающейся юностью по эту сторону мира, а его, с огромным куском берега, вместе с росшими там березками, унесло вниз, к темной воде, к черноте небытия, из которого он вернулся в этот мир не просто взрослым, а почти старым. Даже волосы его были теперь белыми не от солнца, а от седины.
После этого ему и стал сниться сон, повторяющий вновь и вновь те мгновения: змеящаяся черная молния трещины; гул, подобный вздоху гиганта; взмывающая из его объятий девушка, ее оглушительный крик и – наступившая вдруг невесомость, словно продолжение блаженства от первого поцелуя. Он даже не успел испугаться, настолько недолгими были эти мгновения космической легкости. В следующий миг на него разом обрушились непомерная тяжесть и та самая липкая темнота. Перед тем как погрузиться в нее окончательно, он успел почувствовать, как и сам он, подобно берегу, разрывается надвое, и одна его часть остается висеть в черной патоке тьмы, а вторая продолжает нестись в черную же бесконечность.
Его откопали лишь к вечеру, когда реальная темнота грозилась уже скрыть место обвала. Конечно, он ничего этого не помнил. Он очнулся лишь в больнице, поразившись, открыв глаза, обилию вокруг себя белого цвета. И эти цвета – черный и белый – стали теперь сопровождать его всюду, словно все остальные, соединявшие их яркой радугой, потеряли для него смысл.
Он так и не закончил школу – учеба казалась ему теперь такой же никчемной глупостью, как и нелепые ужимки серых теней в резко грохочущем ящике, возле которого любила коротать вечера мать. Он попытался работать, но убирать навоз в коровнике ему не понравилось, а ничего иного ему попросту не предлагали. Поэтому он почти целыми днями сидел дома, любуясь белизной русской печи, или лежал, уставившись в покрашенный белой краской потолок. Он полюбил белый цвет. Он любил его так же самозабвенно и ярко, как ненавидел черный. Он обожал утро и день, боялся ночи и ощущал болезненную тревогу вечером. А еще он стал очень добрым. Он любил всех людей, он готов был обнять целый мир, если бы в нем было поменьше черноты…
Конечно же, он слышал, как его называли дурачком. Он отлично понимал смысл этого слова – ведь на самом-то деле у него вовсе не стало меньше ума, – но не обижался на людей, многие из которых были явно глупее его. Ведь он их любил, невзирая на ум или глупость. Они казались ему белыми и чистыми. Но больше всех он все-таки любил мать, которая не считала его сумасшедшим. Она говорила людям: «Он просто другой, и в том нету его вины». Но после мать плакала, и эти слезы болью отзывались в его сердце. Он хотел, чтобы мать не только любила его, но и гордилась им. Для этого нужно было сделать что-то очень хорошее, большое и обязательно светлое – такое, чтобы оно принесло добро и пользу всем людям если не целого мира, то хотя бы жителям их села. Чтобы они перестали считать его дурачком, чтобы они тоже полюбили его, как любил их он сам. Он хотел прославиться, но не ради самой славы, а лишь для того, чтобы все могли увидеть, каков он на самом деле. Но что мог он сделать очень хорошего в этой глуши? Разве что все же почистить коровник, но вряд ли тот подвиг мог сравниться по значимости с очисткой Авгиевых конюшен.
Беда обвалилась на деревню внезапно, как обычно умеет делать лишь только она. Это случилось в один из тех немногих вечеров, когда он все-таки вылез из дому. Неуемная вечерняя тревога порой выгоняла его из четырех стен, собирающих ненавистный сумрак в углах, словно висящая под потолком липкая лента – назойливых мух. Обычно он шел к реке, на тот самый берег, обвалившийся край которого когда-то напополам разорвал его жизнь. Вряд ли его тянули туда воспоминания, просто оттуда дольше был виден закат солнца, отчего поганая тьма наступала там чуточку позже.
В тот вечер солнце уже село, но чернота ночи еще не успела опуститься на землю, и он поспешил назад, чтобы вернуться домой до наступления полной темноты. Он еще не вышел из растущего на прибрежной круче березняка, как едва не споткнулся обо что-то, лежащее под белыми, словно светящимися в полумраке стволами. Он почувствовал холод, сбежавший вниз по спине, но все же нагнулся и осторожно дотронулся кончиками пальцев до странного продолговатого предмета, своими очертаниями смутно напоминающего маленькое человеческое тело. Он вздрогнул и резко отдернул руку – его пальцы коснулись чего-то по-настоящему липкого! Быть может, перед ним лежал овеществленный кусок его ночных страхов, пытающийся принять облик человека?