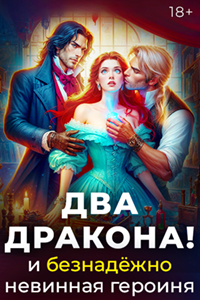Персикова
Персикова
Персикова
Хорошо или плохо, вот только память моя — дырявое решето, и я уже не помню детально всей своей жизни в первых классах. Как школьные записки, передаваемые от парты к парте мелкими, рваными клочками с пустой, но очень важной перепиской, так и моя память осталась в подобных обрывках.
Даже фотографии мои школьные пусты и порой мне кажутся не моими, а чужими, подброшенными. Но одно я помню ясно и уже не забуду никогда.
Закончилось первое полугодие, и мы сидели так, как рассадил нас классный руководитель. Мальчики сидели с мальчиками, а девочки —с девочками. Я в ту пору сидел с Пориловым Мишкой, его еще все дразнили Парилка, а он гонялся за обидчиками, как пес гоняется за собственным хвостом. Сам он был не по годам высокий и крепкий, коротко стриженый и черный. Помню его большие кулаки и насупленный взгляд злого и обиженного человека, но, несмотря на этот грозный вид, он больше боялся, и его часто обижали даже те, кто был поменьше. Особо мы не ладили, он все время молчал или обращал внимание на дразнил.
Да и класс я знал не так хорошо, а точнее знал только парней, а девочек не знал вообще, только на лицо. Но среди этих лиц было одно особенное. Продолговатое, с невероятно красными щеками, которые никогда не бледнели, а только багровели еще больше от мороза или жары, покрытые мелким нежным пушком, словно кожура персика; большие голубые глаза, которые всегда смотрели в одну точку и, казалось, не смыкались никогда; пушистые длинные ресницы; широкий и постоянно отрытый лоб; стянутые в тугую косу русые волосы и полностью сжатые маленькие рисованные губки. Это невероятное лицо всегда смотрело на кого-то неотрывным и немного тупым , немного искусственным и в то же время любознательным взглядом, а когда на нее попадали лучи солнца, то был виден этот легкий прозрачный пушок на ее красных щеках. С таким же любопытством я часто смотрел на нее, все больше разглядывая детали этого удивительного лица. Я разглядел еще брови густые и широкие, как птичьи перья, уходящие лезвием у висков. А уши были настолько прижаты к голове, что, казалось, их вообще не существует, впрочем ,верхние кончики были едва-едва видны, но чаще скрывались под тугими русыми волосами. Когда она ловила мой пристальный взгляд на себе, она неуверенно и смущенно улыбалась, и тогда ее тонкие губки отрывались друг от друга и моментально раздувались в размере, становясь плотными, пухлыми, увлажненными, совершенно другими, словно она их все время с силой сжимала, а в такие мгновенья на секунду давала волю, и они, как бутон, распускались, становясь губкой, переполненной влагой.
После я стал обращать внимания на ее маленькие крепкие пухленькие руки, на ее рыхлое тельце, на маленький вдавленный подбородок и полную шею. И чем больше я подмечал в ней деталей, тем дольше она не выходила из моей головы. Я стал радоваться, когда случайно встречал ее в коридоре, и какая-то тоска пронизывала меня, когда она не приходила: у меня не было никакого настроения, и не хотелось ничего делать. И отчего-то разглядывать других мне не доставляло никакой радости и даже, наоборот, больше отталкивало. Я мог только смотреть, наблюдать, и это приносило мне большую радость. Незаметно для себя я стал неожиданно зависим от этой радости, и тут произошло интересное событие.
Наш классный руководитель решил всех пересадить, но Вера Паловна предложила сделать так: каждый мог написать на листочке имя того, с кем хотел бы сидеть, и отдать ей, она тайно прочитает и потом рассадит всех по своим местам. В случае если несколько человек напишут одно и тоже имя, то садили с тем, кого выбирал бы желанный. Для меня наступил момент первого необузданного и неожиданного чувства, перемешанного счастья, ликования со страхом и отчаяньем. А вдруг ее выберут все парни в классе, и она тогда не выберет меня? Столько вопросов, самоистязаний и ревности, злобной, по-детски несдержанной. Собравшись, я написал ее фамилию — Персикова — и с каким-то страхом отнес записку. А когда отдал, понял, что это был за страх — страх того, что все узнают о моих чувствах. Я захотел ее забрать, но было слишком поздно. На следующий день я не хотел идти в школу, родители силой заставили меня. Сидел я молча и ни на кого не смотрел. Мне было и стыдно, и страшно. Я уткнулся головой в парту, а мое сердце предательски громко стучало, казалось, на весь класс, и еще предательски слезились глаза. Вошла Вера Паловна и села за свой стол и начала пересаживать ребят. Произнося следующее: «Миша Панин — первая парта. Сюда же Вера Лукшина». И весь класс жутко смеялся, а многие завидовали, потому что так и не решились на откровенность. Тот, кто не решился, садился мальчик к мальчику или девочка к девочке. Таких «пар» оказалось немного, и всех их сопровождали дружным смехом и дразнилками. Наконец, Вера Паловна назвала ее фамилию: «Персикова Катя, третья парта, средний ряд. Туда же…» И я готов был сгореть, только отчего, не понял и сам: от страха, что не я, от стыда, что я, от счастья, что я, от горя, что не я? Все эмоции переполняли меня и требовали взрыва, но Вера Паловна, наконец, произнесла: «Витя», — я поднял голову и посмотрел сперва на улыбающуюся Веру Паловну, она смотрела на меня и ждала, когда я встану, чтобы продолжить пересадку, а после посмотрел на Персикову, что уже сидела на той заветной парте и ждала меня, таинственно улыбаясь своими пышными и влажными губами. Я встал, раздался смех, и парни давай выкрикивать «тили-тили-тесто…», но я шел победителем, впервые почувствовав победу и все выкрики казались аплодисментами толпы.
Впервые ощутил жар в груди от женского взгляда, впервые трепетный стук сердца был волнительно приятен, впервые у меня что-то мелькало перед глазами и слегка шумело в голове, словно с плеч убрали тяжелую штангу. Увидел я и завистливые взгляды нерешительных одноклассников. А после сел к ней и почувствовал такое блаженство, словно с палящего солнца я перебрался в прохладную тень.
— Кого ты написал? — шепнула неожиданно она мне. Я растерялся и ответил вопросом.