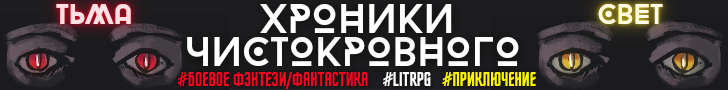Первый Плохой День
Первый Плохой День
Я люблю смотреть на город ночью. Ночью никто не отвлекает от мыслей, и они возвращаются домой, вспугнутые шумом, светом и людьми.
А иногда вместе мыслей приходят воспоминания: сначала мнутся у порога, не решаясь войти, а потом, расхрабрившись, вваливаются в голову и молчат тысячей голосов. От этого звенит в ушах.
Первым всегда вспоминается мой первый плохой день. Мне нравится его так называть – Первый Плохой День. От названия веет чем-то старомодно-дурацким, и потому мне гораздо легче смеяться над ним. Не плакать ведь, верно?
— Горчаков, сколько мы уже знакомы? Десять лет, двадцать, сто?
Не обращаю внимания. Если долго молчать и не смотреть в лицо, она уходит. Кстати, это действует если не со всеми людьми, то с многими – проверено опытом, поэтому молчу и продолжаю смотреть вниз.
Балкон узкий, тесный: баррикада из старых тумб, пыльных связок из шуб и курток, банок с краской, стопок газет, остатков плитки и пустого аквариума ограждает меня от соседей. Нечего им сюда заглядывать. Ничего хорошего они не увидят.
— Горчаков, ты меня слышишь?
Молчу. Смотрю вниз. Хочется закурить – я не люблю табак и кашляю как ошалелый от дыма, но сигарета хорошо смотрелась бы в руке. Уместно. И совсем немного – драматично. Да, я склонен к драме. Еще один из моих недостатков. Но его с большой буквы я не именую.
— Молчишь, значит. — Голос становится все выше и выше; еще чуть-чуть – и им можно будет резать стекло. — Не знаю, зачем я продолжаю приходить, если тебе это не нужно. Я могла бы остаться... — Она глотает слово «дом», но я же слышу. — Могла бы не являться тенью отца Гамлета, но какого-то черта таскаюсь к тебе. Как идиотка!
У меня руки не дошли застеклить балкон. Хотя зачем я вру? Я и не собирался этим заниматься – не умею и не люблю работать руками. Еще один недостаток. И снова вру: мне нравятся мои недостатки – и я считаю их всего лишь милыми чудачествами – в хорошие дни.
— Горчаков, не притворяйся глухим. Скажи, зачем ты опять принялся за старое? Тебе мало было прошлых разов? — Она так и говорит – «разов». Тупая корова. — Ладно я, я привыкла, что тебе наплевать на меня, а другие? А как же они? — Она дергает меня за рукав. — Ты о них думаешь?!
Нет.
Нет, не думаю. Оп, еще один недостаток!
Она стала тяжелее: я едва поднимаю ее, с усилием переваливаю через перила и толкаю, а потом у меня еще долго ноют плечи. Корова.
***
Когда начался Первый Плохой День, я решил, что это будет еще один хороший день – такой же, как вереница других дней, отличавшихся только погодой и обедом. Да и обеды иногда были одинаковыми: школьные повара разносолами нас не баловали. Так что с утра все было так же, как и всегда – тишина пустой квартиры, бутерброд в холодильнике, монотонный голос Ирины Юрьевны, какао и сырники в столовой.
А потом явилась она.
— Дети, — Ирина Юрьевна наверняка мнила себя важной особой; и внимание наше привлекала исключительно хлопками, — это наша новенькая – Оля Ильина. Поздоровайтесь с ней.
Класс затянул «здравствуйте», а я промолчал. Помню, Оля не понравилась мне – или снова вру, перенося чувства себя-сегодняшнего на себя-прошлого? – и я решил, что буду дразнить ее. Ну а что? Раньше дразнили только меня (я долго оставался чересчур упитанным ребенком, жертвой бабушкиной любви и родительского невнимания), а теперь настал ее черед.
Оля была альбиносом.
Ирина Юрьевна усадила ее рядом со мной, и весь следующий урок я старался не прикасаться к ней даже краешком одежды, хотя и ощущал волну тепла. Это было непривычно.
Я волновался: придумывал дразнилки и воображал, как это будет. Заплачет ли она? Будет ли ей обидно? Вспомнит ли она об этом ночью, когда кажется, что мир вокруг исчез, а осталось лишь воображение? Я предвкушал радость.
Да, наверное, это не был самый первый плохой день – со мной случалось всякое и раньше, но никогда прежде я не… Не люблю это говорить. Даже в мыслях. Потому и придумываю длинные дурацкие названия, похожие на пыльные плюшевые занавеси в каком-нибудь провинциальном театре – мои собственные крылья Мельпомены.
На перемене я дождался, пока мы вывалимся в коридор одним огромным комом, и начал кричать дразнилки. Тогда они казались мне очень остроумными – «Альбинос – в попе нос!», – но теперь я понимаю, почему получал за сочинения не больше тройки.
А потом все почему-то пошло наперекосяк. Меня не поддержал никто: даже заика Даня, первый подпевала и трус, косил левым глазом и молчал.
В общем, все закончилось тривиальной дракой, в которой я же и пострадал. Раньше меня дразнили, да, но теперь невзлюбили – я ощутил это буквально всей кожей.
Далась же им эта Оля!..
Домой я брел медленно, едва переставляя ноги, но Оля – в тот день она окружила меня душной стеной – все равно как-то оказалась позади меня. Догнала, пристроилась справа и защебетала воробьем. Наглым белобрысым воробьем, из-за которого у меня наливался багрянцем синяк под глазом и шумело в ушах. Я разозлился. Есть у меня такой недостаток – я быстро вспыхиваю, а потом творю неведомо что. Иногда это даже хорошо: именно в такие моменты я становлюсь резок, быстр, решителен, – но обычно вспышки гнева ни к чему хорошему не приводят.
Мы шли вдоль оживленной трассы, и Оля, не умолкая ни на секунду, рассказывала о своей собаке, о кукле, о братике, о новом платье. Кажется, она пыталась со мной подружиться. Нет, она точно хотела дружить со мной, но это знание пришло позже, а пока я молчал и злился.
Мимо промчалась машина, обдала нас водой из лужи, и Оля, взвизгнув, отпрыгнула в сторону – прямо ко мне. А я ее оттолкнул. Сильно, так, что она упала.
У нее смешно округлился рот. И глаза. Совсем как у человечка на детском рисунке. Я и сам малевал таких же уродцев: два кружочка – глаза, круг побольше – голова, два полукруга вместо ушей, носа нет, а рот кривится палочкой.
Миг назад шумная улица опустела. Я мог поклясться, что все люди попросту исчезли в один миг, но это было бы ложью. Наверняка кто-то проходил мимо, не замечая нас, но я видел только Олю. Она упала в ту самую лужу, и грязная вода уже пропитала юбку и подбиралась к пиджаку. А потом ее скрыла массивная морда грузовика.
Все случилось как-то разом – в единую бесконечную секунду, наполненную многоцветьем негативной пленки. Раз – бледная кожа, натянувшаяся на лбу и висках. Два – серая от брызг, горячая шкура рычащего грузовика. Три – я иду по тротуару и повторяю считалочку, ту, где месяц вынул ножик из кармана и пошел всех резать.
Вечер помню плохо. Кажется, что-то ел, что-то говорил, но этого словно и не было. Но вот следующий день я вижу очень четко.
В класс я пришел первым. Вскочил едва ли не на рассвете, собрался и убежал в школу, чтобы усесться за парту и следить за каждым входящим, выискивая в лице – что? что я надеялся там увидеть: страх, любопытство, возбуждение? – не помню что.
Но все было таким обычным, будто вновь настал хороший день. Я даже немного расслабился и рискнул достать из портфеля книги и тетрадки: до того я сидел почти не шевелясь, ожидая то ли визита милиции и расстрела на футбольном поле перед школой, то ли прилюдной порки на общешкольной линейке. Да, страхи мои причудливы.
— Привет, Горчаков!
Сначала я обмер. Сердце перестало стучать, у меня заледенели пальцы, и пенал выскользнул на пол. Я же говорил о любви к драме? Она и помогла мне опомниться.
— Привет. Оля. — Никаких вопросов о вчерашнем, никаких воспоминаний о чихающей железной морде грузовика, ничего.
Она села рядом и принялась рыться в ранце. От нее пахло молоком и совсем немного духами, на тоненьких косицах сверкали розовые резинки, а блузку плохо выгладили – рукава измялись. И было так нехорошо оттого, что она рядом – живая, бело-розовая, шумная, – что я ткнул в нее пальцем. В бок, под ребра, чтоб побольнее.
— Ай! Ты дурак, Горчаков?!
Нет, не сон. И будто ничего и не было.